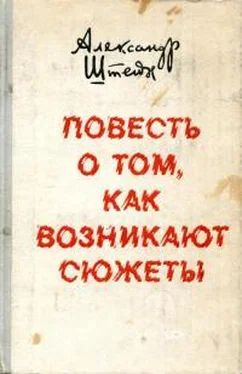Взрослые горестно вглядываются в детские лица и, качая головами, смотрят на аккуратные рюкзачки, заботливо уложенные дома. Ищут своих. И, найдя, нередко не выдерживают, вырываются вперед, стискивая детей в последнем, прощальном объятии, нарушая строгий порядок отправления. Молодая, совсем молодая мать бросается к веснушчатому мальчику, чинно шедшему с другим мальчиком в ряду, что-то говорит, плача, гладит его по носу, по щекам, по бровям, а он идет, не нарушая шага, не плача, сжав зубы в отчаянном усилии, — маленький, сильный мужчина.
А женщины считают, считают:
— Триста два… Триста четыре… Триста шесть…
…Мы пришли в отпущенное нам «личное время» проститься с семьями — эшелон с женами и детьми писателей тоже уходит куда-то в ярославскую деревню…
Провожаю жену, художницу Людмилу Яковлевну Путиевскую, ее шестилетнюю дочку Таню. Жена отпущена с киностудии «Ленфильм», где она работает, на две недели — проводить дочку в лагерь, в Гаврилов Ям, это где-то под Ярославлем.
«Только на две недели…»
Еще недавно, в субботу 21 июня 1941 года, заказывала боярские бороды, примеряла костюмы Черномору, Руслану, Людмиле, надевала кокошники на актрис: режиссер Л. Арнштам готовился к съемкам «Глинки».
Стоит на платформе, держа за руку девочку, повторяя: «Только на две недели…»
В легком летнем платье, как и другие жены, — зачем лишнее, зачем пальто, зачем зимние вещи, ведь «только-на две недели»…
Лагерь Литфонда потом передвинули дальше в тыл, в Приуралье, в летних платьях и застал их сорокаградусный, вдвойне, втройне жестокий для них северный мороз.
Было тяжко, невыносимо прощаться с близкими — нам, уже одетым в армейское, во флотское. И чувство освобождения — не только потому, что близкие будут в безопасности, но и потому, что легче без них жить «по-новому», по-солдатски.
Невыразимы были страдания офицеров и солдат, жены которых, дети, родственники остались в осажденном городе. Отдавали крохи своих, тоже голодных военных пайков и видели: все равно не помочь…
Вокзал полон неясным и тревожным гулом. Кто-то кричит севшим голосом: «Василеостровские дети — третья платформа! Выборгские — вторая платформа! Петроградские — пятая! Повторяю: Василеостровские…» Кто-то спрашивает монотонно: «Ушел на Псковское направление воинский эшелон?» — и само сочетание этих слов — Псковское направление — пронзает своей неправдоподобностью, неумолимостью.
Чуть не сбили с ног две женщины с нарукавными повязками: от них убегала маленькая девочка с бантом в рыжих волосах. Ее настигли, рыженькая повалилась на платформу, отбивалась и руками и ногами, всхлипывала. «Я не ваша, я чужая! Не поеду! Я не ваша! Где моя мама? Хочу к маме!» Воспитательницы все уговаривали девочку своими охрипшими, грубыми голосами, поднимали ее, утешали, поправляли сбившийся бант. Метались ополоумевшие от жары, бессонницы, детского гвалта, чудовищной сутолоки железнодорожники в красных шапках, с мешками под красными, как у альбиносов, глазами, а из громкоговорителя шло что-то тяжелое и тревожно-торжественное. Песня первых военных недель — великая песня:
Идет война народная,
Священная война…
И в нашем писательском эшелоне уезжают дети, многие из которых никогда не увидят отцов, и жены, многие из которых никогда не увидят мужей: мужья и отцы потонут в море, их сожгут в танках, накроют авиационные бомбы, они умрут страшной, мучительной смертью — от голода.
Так погибнут и многие из тех, кто стоит рядом со мной на плачущем и кричащем перроне…
Это — последнее их прощание.
Не всем женщинам дозволено ехать в эшелоне; как правило, едут лишь те, кто будет работать в детском лагере воспитательницами, поварихами, уборщицами. И одна из тех, кто не едет, когда поезд трогается, в последнее мгновение, оглянувшись, — и я вижу ее взгляд, обезумевший от горя и ужаса, — вскакивает на подножку, отталкивает сопротивляющегося проводника: она не боится немцев, она боится оставить без себя своего ребенка. И только видно, как открываются рты у нее и проводника, что-то кричат друг другу, а что — не слышно.
Проводили, все, стоим на пирсе. Волна стучит о сваи. В ушах, сквозь плеск, осипший, сорванный голос: «Василеостровские дети — третья платформа! Выборгские дети — вторая платформа!» И монотонный счет: «Пятьсот сорок пять… Пятьсот сорок шесть… Пятьсот сорок семь…»
Полдневная жара, голубизна, слепящее солнце, силуэты кораблей и все, что было только что на Московском вокзале, кажется чудовищным сном.
Читать дальше