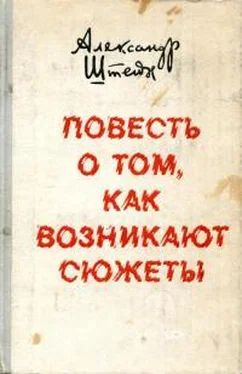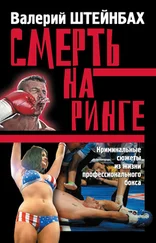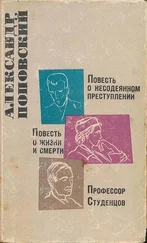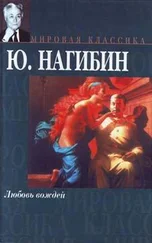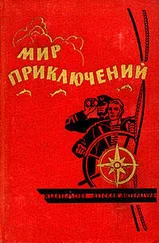Погодин остроумно заметил, что пьеса начинается с непорядка. В самом деле, что такое конфликт в пьесе? Это прежде всего потрясение. Это раньше всего нарушение правил. Это — испытание героя. Это — сплетение самых причудливых, пестрых, невероятных обстоятельств… Это — случайность как проявление закономерности. Это — «обыкновенное чудо». Шекспир заставляет Ричарда Третьего у гроба убитого им мужа леди Анны объясняться ей, леди Анне, в любви. И она… верит ему! Гамлет убивает отца своей невесты. Ромео убивает брата Джульетты. Эдип любит женщину, оказавшуюся его матерью. «Тихие», задумчивые чеховские пьесы оканчиваются выстрелами из револьвера.
Нарушал правила традиционнейший будто бы Островский — купеческую жену принуждал броситься в Волгу с крутого обрыва, как будто все купеческие жены только и делали, что кидались в реки с обрывов! Нарушал правила и Толстой, заставляя Анну Каренину бросаться под поезд. Но вот важна была Толстому эта деталь, гениальная толстовская деталь, — и Каренина избирает именно такой путь самоубийства, именно так кончает с жизнью, с обществом, со светом в век цивилизации и прогресса…
Потрясение, нарушение правила, обострение… В свое время Вишневского обвинили «в показе случайных анархо-бандитских персонажей, проникающих в наш флот, в качестве основных для него явлений». В качестве иллюстраций к этим объективным «злонамерениям» была и «Оптимистическая трагедия» и даже «Последний, решительный»… А я перечитываю эту пьесу теперь, читаю последний эпизод, где Вишневский на много лет вперед рассказал о первых днях нападения на СССР, и вижу погранзаставы, первыми принявшие удар, и трагедию Брестской крепости, и оборону Ленинграда. Конечно, у этого эпизода с тогдашними фантастическими военными пасторалями в прозе и в драме ничего общего…
Вишневский боролся с благополучненькой прилизанностью таких пасторалей, но нередко смирялся, говорил «есть» этим уничижительным формулам — таким округлым, таким непроницаемым. А в дневнике записывал с горечью и болью:
«Несомненно, я ставлю вопросы обнаженно, без благополучных уверений и пр. Это раздражает, смущает, сбивает. Но между собой, у тех же писателей и критиков, шевелятся эти же вопросы. В сущности, надо признать, какое грандиозное количество еще не познанного, и надо а т а к о в а т ь это непознанное, а у нас критик дает готовые, застывшие «мерки», чрезмерно рациональные. Само искусство, в его сути, художники, их «нутро» — им недороги».
Вот запись того же тридцать третьего года:
«ГРК (Главрепертком) мешает «Оптимистической трагедии». Вечная тема: остро, смело… Трудно работать».
Публично, с вышки всесоюзной трибуны, в официальном докладе «Оптимистическая трагедия» была обвинена в тяжелейших грехах: «Вишневский дает «хор безликих людей», Вишневский не в силах передать «богатство социальных соотношений», Вишневский «оправдывает анархическую стихию», Вишневский изображает не революцию, а «жертвенность»…»
Официальное выступление официального лица. Автоматизм таких выступлений в ту пору бил безотказно.
Вишневский проводит бессонную ночь — разбитый, оскорбленный. Проверяет себя — своей жизнью, своей биографией, Марксом, наконец, да, Марксом — он перечитывает переписку с Лассалем о трагедии «Франц фон Зикинген», делает пространные выписки.
К утру закончено письмо.
Вот только выдержки из него:
«В спешке и суете перед пленумом ты прочел в один прием (заодно с пачкой других) еще нигде не опубликованный и не поставленный текст пьесы. Факт передачи тебе этого экземпляра — свидетельство моего большого доверия к тебе. Что же вышло? Не обменявшись ни единым словом ни с автором, ни с театром, ты даешь в восьмидесяти строках без всякого художественного анализа и учета моего творческого пути всесоюзный «критический паспорт» моему произведению».
Не знаю человеческой и общественной реакции на это письмо, тогдашней судьбы его. Но, по выражению Вишневского, «критический паспорт» был дан. Атмосфера вокруг «Оптимистической» отравлена. И не только вокруг «Оптимистической». Начинала действовать цепная реакция автоматизма. Находим в дневнике запись от 16 октября 1933 года:
«Какая-то атмосфера неуловимых и уловимых нападок, иронии, неопределенности, замалчивания: «На Западе бой» замолчали; «Оптимистическая трагедия» идет сбоем, через молчание и выжидание; премьеру в Киеве замолчали наглухо (учтите, это была первая премьера «Оптимистической», резонанс первой премьеры всегда важен драматургу. — А. Ш. ); книгу и публикацию в «Новом мире» замолчали; в обзоре «Литературной газеты» Оружейников прошел мимо. А я буду еще работать, писать все полста лет, если не убьют на новой войне. (Бабка жила до 80-ти, отец в 55 крепок)».
Читать дальше