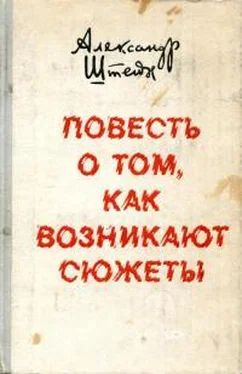Уцелевший, обезумевший, опустошенный, потерявший веру во все и вся, медленно бредет прочь, а за его спиной взрывается в пламени мост, который был никому не нужен.
Тупая, неумолимая бессмысленность войны…
Сюжет, избранный Грегором Манфредом и повторенный на экране, кажется сейчас закономерным и естественным, равно как закономерны и естественны были олдингтоновские и хемингуэевские сюжеты, повторявшиеся во многих романах после первой мировой войны…
В самом сюжете Грегора Манфреда заключена и концепция, философский смысл произведения.
Естественны и закономерны были и схожие сюжеты нашей литературы, однако в них была иная концепция и иной философский смысл.
Так были написаны еще в двадцатые годы «Разгром» Фадеева и «Железный поток» Серафимовича. А потом была «Оптимистическая трагедия» — погибал целый матросский полк, и его же, Вишневского, «Последний, решительный»…
Если горькие сводки Советского Информбюро начала войны стали в противоречие с предвоенными заверениями о том, что врага будут бить на его территории, то искусство наше в его лучших произведениях, напротив, подготовляло поколение, вступившее в войну, к правде войны, вводило поколение в тяжелую и драматическую ее суть.
Подвиг роты юнг на Неве вызвал эти размышления.
Ленинградские мальчики не хотели, чтобы в Ленинград вошли немцы. Не их вина была, этих мальчиков, что немцы подошли к Ленинграду так близко. Но они сделали все, чтобы не пустить немцев в Ленинград, — подвиг был осмыслен этой возвышенной целью, и они воевали и умирали, как воевали и умирали фадеевские партизаны, и китаец Син Бин-у из ивановского «Бронепоезда», и как матросы Всеволода Вишневского…
Ночью в номере выстукиваю на машинке корреспонденцию о сражениях на Неве. Ночью же понесу ее на военный телеграф в Адмиралтейство.
А по номеру мечется Борис Лихарев — приехал с фронта, ночует у меня, на свободном диване.
Поэт, сотрудник армейской газеты, с начала войны был на Севере. Политуправление вызвало в Ленинград, успел проехать до того, как замкнулось кольцо блокады.
Чуть приподняв край шторы из синей обертки, вглядывается в темень, в оранжевое пятно, встающее над чугунным всадником на площади, над Мариинским дворцом.
Даже сквозь плотно закрытые окна отчетливо слышится несмолкаемое уханье — и ночью бьет артиллерия.
Хорошо бы, если наша.
Сегодня оставлен Пушкин. Это даже трудно представить — Пушкин.
В Пушкине была армейская газета, в которой работала жена Лихарева, — он переживает взятие Пушкина вдвойне. Что с женой? Успела ли уйти? Может быть, убита? Почему ее в Ленинграде нет — он искал ее весь вечер.
Свисток с улицы — пробился свет, Шанихин на посту.
Опускаем штору затемнения. И тотчас же стук в дверь. Нет, не Шанихин. Михаил Светлов, мой давний знакомый по комсомолу; кто-то сказал, что его лицо стало похоже на бритву в профиль. Он живет в соседнем номере. Входит, очень неумело, на ходу прочищая дуло своего солдатского нагана почему-то носовым платком.
«А что? — говорит, он, оглядывая номер. — Совсем неплохая долговременная огневая точка».
Мрачноватый юмор сейчас в ходу.
У него в номере испорчен телефон. Берет трубку, через коммутатор вызывает город. «Дайте город. Занят? Не может быть».
В кают-компании военного корабля Светлова приняли бы как своего — ручаюсь.
Каюсь, я потом, спустя пятнадцать лет, приписал светловскую невеселую остроту своему Трояну из пьесы «Гостиница «Астория», московскому журналисту Трояну, застрявшему в сентябре в гостинице «Астория».
Иду в Кронштадт на катере.
Первое известие на кронштадтской пристани: убит Иоганн Зельцер, дружок.
У меня еще не успело обледенеть сердце, как это случилось несколькими месяцами спустя, в зимнюю блокаду, когда ничья смерть уже не заставляла биться его учащенней, ничья смерть уже не тревожила и возможная собственная — тоже.
Известие о смерти Иоганна ранило больно — виделся с ним недавно, в начале этого невероятного месяца: пришел на катере ко мне, на «Октябрьскую революцию», с «Марата», взял взаймы клише, а заодно и передать письмо близким, зная, что меня собираются на сутки командировать в Ленинград.
Письма на Большую землю из Кронштадта шли тогда дольше, чем в век дилижанса.
Письмо Иоганна Зельцера плыло здесь вдоль берега, занятого немцами, потом переплыло Ладогу, потом тряслось на попутных и попало в тыл, к жене и трем его детям, когда он лежал на дне Финского залива.
Читать дальше