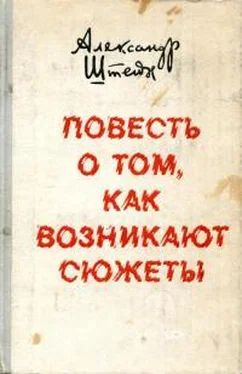Как ни странно, в ресторане играет оркестр.
Оркестрантов забыли эвакуировать, забыли мобилизовать — что с ними делать, что им делать? Их включили в состав команды ПВХО «без отрыва от производства».
В тусклом свете полупогашенной люстры, к тому же еще обложенной все той же унылой синей оберткой для маскировки, лица музыкантов кажутся недостоверными.
В ресторане кормят живущих в гостинице по талонам военного коменданта. Голода еще нет, но его приближение в городе все ощутимей, даже тут.
Я прочитал, уже в 1962 году, книгу, из которой узнал то, чего не знал и не мог знать тогда. Это книга «Ленинград в блокаде», написанная тогдашним уполномоченным Комитета обороны по продовольственному снабжению Д. В. Павловым. Цифры, приведенные им, объясняют если не все, то многое.
12 сентября запасов зерна, муки и сухарей в Ленинграде было на 35 суток, крупы и макарон — на 30 суток, мяса и мясопродуктов — на 33 дня, жиров — на 45 суток и сахара и кондитерских изделий — на 60 суток.
А в Ленинграде, блокированном немцами, оказалось два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи человек плюс 343 тысячи человек из пригородов, тоже замкнутых фашистским кольцом.
Вот с этих цифр и началась трагедия Ленинграда…
И еще цифра: детей в городе осталось четыреста тысяч.
В первые месяцы войны медленно поспешали с эвакуацией — потом было поздно…
Этих цифр мы не знали тогда, повторяю, и не могли знать. Но даже тут, в гостинице, меню суживалось с каждым днем и наконец стабилизировалось на супе с зеленой травкой и пшенной каше с каплей русского масла.
Уже в октябре, когда стало вовсе голодно и по ресторану, некогда фешенебельному, бродили отощавшие, ребристые кошки, которых, однако, еще не начали есть, кто-то из бойцов ПВХО обнаружил в подвале, за горами пустой тары, ящик; в нем хранились забытые администрацией ресторана какие-то не то импортные, не то экспортные индейки — замороженные. Их с ликованием пустили в дело. Я вернулся только что из Кронштадта и получил свою микроскопическую порцию индейки, но не успел даже воткнуть в нее вилку — с пола вскочила кошка и потащила индейку вниз. Такие же прискорбные инциденты произошли и на соседних столах. Кошек лупили чем попало, но они продолжали налеты на индеек.
Бедные, они не знали, что через месяц будут есть их самих. В декабре я уже не встретил в Ленинграде ни одной кошки.
В ресторане меня окликает Абрамович-Блек.
Бритое лицо провинциального трагика, фигура борца.
Русский дворянин с нерусской, да еще двойной нерусской фамилией, из офицеров царского флота, выпивоха, фантазер, забубенная голова.
Одного поколения с другими выходцами из царского флота, ставшими «военморами» революции, такими, как нынешний адмирал флота Иван Степанович Исаков или писатели Л. Соболев и С. Колбасьев.
Это все гардемарины, и хотя все они совершенно разные, было в них нечто неуловимо общее. Морская косточка — это неистребимо.
Люди, которых я перечислил, стали писателями в разные периоды своей жизни и с разной степенью таланта.
Неистребима и маринистская традиция русской литературы — флот давал ей подкрепления во все времена, начиная от Бестужева-Марлинского, Даля и Станюковича.
Открыл Абрамовича-Блека как писателя все тот же Всеволод Вишневский, напечатав в «Знамени» повесть «Невидимый адмирал».
В начале войны Военный совет Балтийского флота направил Абрамовича-Блека на флагманский крейсер «Киров» редактором многотиражки. Не знаю, участвовал ли он в прорыве из Таллина, но хорошо помню его в сентябрьские дни в Ленинграде.
«Киров» стоял на Неве, и Абрамович-Блек нет-нет да и вырывался ночью в гостиницу, к друзьям — тут была та литературная среда, без которой он уже не мог.
Бывший гардемарин пользовался особыми привилегиями у заведующей рестораном, возможно, благодаря дворянскому воспитанию и благородным манерам. Это выделяло его среди нас и предоставляло ему некоторые, пусть скромные, преимущества. Заведующую рестораном «Астории» мы вслед за ним почтительно называли «леди Астор». В день, когда немецкие автоматчики впервые обстреляли проходную Путиловского завода, весть докатилась к вечеру в гостиницу; оркестранты особенно ожесточенно исполняли тихую «Баркаролу» Чайковского, — он подошел к «леди Астор», сказал веско, с морской неповторимой галантностью: «Мой катер на товсь, у пирса на Ладожском озере. Слово офицера, мадам, без вас не выйдем. Трудитесь спокойно».
Конечно, не было у него никакого катера на Ладожском озере в помине.
Читать дальше