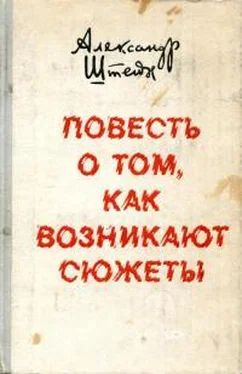Для меня эти пять минут театра стали пятью минутами счастья…
Встречал я Ночь Больших Ожиданий и Больших Надежд с близкими, друзьями и — в разлуке с ними. Встречал в Средней Азии и в Заполярье.
Встречал и на пограничной заставе — болотная глушь, до железнодорожной станции ехать на розвальнях сто сорок километров; выпиты скромные сто граммов, закуска — обуглившаяся, выпеченная в золе картошка в мундире, а потом, когда легли спать, застава, разбуженная выстрелом, в возникшем полумраке сонные люди сбрасывают одеяла, суют ноги в валенки, разбирают винтовки — они подле, в козлах…
Встречал Новый год и в промерзлом автобусе газеты — дивизионной, было и такое, на зимней войне одна тысяча девятьсот сорокового, в канун года другой, большой войны…
Встречал и в Ленинграде, в блокадном сорок втором, в квартире ленинградской писательницы и писателя-фронтовика.
Новогодняя ночь стала для них днем свадьбы и началом недолгого семейного счастья…
И мы, ленинградцы, сдвинули стаканы за только что услышанную сводку о разгроме шестой армии Паулюса под Сталинградом.
И за прорыв блокады.
И за семейное счастье.
И за победу…
И — позавидовали сталинградцам…
А зависть, оказывается-то, прекрасная вещь!!!
Открылся в канун Нового, 1957 года в Москве, новый, молодой театр.
Рождался, как и все новое, в муках, продирался, ошибался, искал, заблуждался, унывал, загорался новыми надеждами, все было…
К пятидесятилетию революции театр показал не один спектакль, а целых три. Трилогию — о декабристах, о народовольцах, о большевиках.
И три демонстративно одинаковые, подчеркнуто скромные афиши, рядком висящие в рекламной витрине.
Третья часть трилогии, как и две предыдущие, построена на фактическом материале, опираясь на истинный исторический эпизод. Трагический. В Ленина стреляла эсерка Каплан.
Соратники ждут приговора врачей.
И ждем приговора мы, зрители.
Те, что на сцене, — не знают, будет смерть или жизнь.
Мы — знаем. Будет — жизнь.
Но мы волнуемся так же, как те, что на сцене.
Это и есть чудо искусства.
И как всякое чудо — объяснить его почти невозможно.
В финале спектакля, когда врачи объявляют: «Жизнь», люди на сцене бросаются друг к другу, обнимают друг-друга и тихо поют «Интернационал».
Сколько раз пели его, а тут кажется, будто впервые.
И все, что происходит на сцене, — будто впервые.
Наново.
Люди в зале, подчиняясь силе искусства, тоже встают и тоже начинают петь — тихонько, иные просто шевелят губами.
И те, кто поет, и те, кто стоит молча, не уходят, пока на сцене не отзвучат последние слова гимна…
А пока поется гимн, из глубины сцены шагают, как и в продолжение всего спектакля, солдаты караула, охраняющие Мавзолей Ленина, — не артисты, а настоящие солдаты, курсанты.
Это рамка спектакля, дающая ему тональность, торжественное и грустное и патетическое звучание…
И я стоял, пока пелся гимн, и хотел быть автором этой пьесы, и режиссером этого спектакля, и артистом…
Пять минут зависти и счастья…
Когда Виктору Борисовичу Шкловскому исполнилось семьдесят три года, заметил с завистью:
— Эх, если бы мне было семьдесят!
Потом ему было и семьдесят пять, и восемьдесят, и он, верно, снова «завидовал»: «Эх, если бы мне было семьдесят пять!»
Все относительно.
На той же площади, где игралась трилогия о революционерах России, — другой театр.
Посолидней, помаститей, поакадемичней.
Но тоже — рожденный Революцией.
Когда в молодом театре шла последняя часть трилогии, в другом театре — премьера пьесы о революции. К этой пьесе режиссер возвращается в третий раз. И, «наверное», не случайно.
Сам он выходил в начале спектакля на авансцену, тогда было ему за семьдесят, сейчас смело шагнул в девятый десяток.
Само появление этого человека перед спектаклем, легкого, изящного, артистичного, был — Театр.
И была — Революция.
Выйдя вперед, рассказывая историю трех рождений спектакля и затем уступая место драматическому действию о временах, ставших для молодого поколения семидесятых годов далекой историей, сходит, легко, почти воздушно, в переполненный, сияющий зал и садится смотреть свою Жизнь — вместе со зрителем.
Разве не позавидуешь этой старости?
Пять минут зависти — и, значит, не только к молодости? Нет, не только.
Если отвернуть зеленоватый супер, его продолжением на внутреннем листе — обыкновенная фотография немолодого человека в элегантно-небрежно распахнутом пиджаке в столь же элегантном жилете. Правой рукой придерживает девочку, похожую на него, — внучка.
Читать дальше