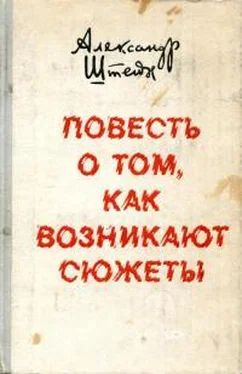В сорок шестом году Юрий Герман был подвергнут резкой и, как время показало, несправедливой критике за рецензию в «Ленинградской правде» о книге рассказов М. Зощенко.
Вылетели из плана издательства повести Юрия Павловича «Студеное море» и «Жена».
В сценарии «Пирогов» внезапно обнаружились ошибки.
«Сценарий ничего не покажет нашим читателям и ничему их не сможет научить».
«Автор не пожалел красок для того, чтобы привести в ужас своего будущего зрителя».
«…В этой картине почти что тонет маленькая фигура самоотверженного врача, пытающегося спасти десятки тогда, когда гибнут многие тысячи».
«Сценарий распадается на части и собран не образом Пирогова, а любовным сюжетом, прикрепленным к второстепенным персонажам».
«Сам образ Пирогова постоянно заставляет вспоминать что-то уже давно и хорошо знакомое. Порой — анекдоты о Павлове, порой — профессора Полежаева из «Депутата Балтики».
«То же следует сказать о кинематографических злодеях-немцах, плаксивом боевом генерале. Все эти персонажи — самая плохая и низкопробная литературщина».
«…Все это напоминает худшие образцы голливудской стряпни, рассчитанной на самого нетребовательного и неразвитого зрителя».
Я скрыл этот попавший ко мне отзыв от Германа. Почему? Потому что все восстановимо в человеческом организме, кроме нервных клеток.
Стоит добавить: Г. М. Козинцев мужественно отстоял сценарий, фильм в 1947 году вышел на экраны. Незыблемой литературной основой фильма был именно тот самый, обруганный сценарий Юрия Павловича.
Фильм и его авторы удостоены Государственной премии.
Но тогда, в 1946 году, Юрий Павлович еще не видел этого сияющего и, поди знай, близкого будущего.
Мы оба с ним оказались на литературной мели, — во многих отношениях и я, ненароком, попал в число «подвергнутых» резкой и, как время показало, несправедливой критике.
Хотелось в это немилое для нас время быть вместе, вместе поразмышлять, вместе оглянуться на минувшее и, быть может, как в былые годы, вместе поработать. Во всяком случае — попробовать.
И он предложил мне вернуться к старой пьесе, которую начали до войны, — осталось дописать два акта.
И писать ее там, где был написан первый, для чего двинулись в Келомякки, уже переименованное в Комарово в честь знаменитого академика.
Снова в Келомякках. И снова — Дзержинский.Сейчас это полный прелести, празднично-благоустроенный курортный район Ленинграда, сюда мчится современная комфортабельная электричка, летит сюда двустороннее отличное шоссе, не покалеченное ни движением гусеничных танков, ни бомбовыми ударами, ни разрывами тяжелых снарядов.
Тогда во всем была память о войне — и в остовах обгоревших дач, и в сиротливо бегающих, брошенных хозяевами псах, и в гранитных надолбах, торчащих у дороги, и в заросших первой послевоенной травой серо-стальных дотах, и в тряском, на неверных рельсах вагоне медленно ползущего поезда, набитого до отказа людьми в военных полушубках, в шинелях со споротыми погонами — едут селиться на новые, неосвоенные места…
Мечется из стороны в сторону огарок свечи в фонаре, зыбко освещающем щербатые полки, входит в вагон на двух культяпках инвалид с гармонью — гитары тогда еще не были в моде. Расположившись у скамейки, на которой мы сидим, растянув мехи, тронув голоса, хрипло тянет длинную-предлинную монотонно-протяжную песню о том, как он приехал домой, как узнал, что изменила ему, герою-инвалиду, жена, как взял он сидор и вместе с верной ему дочкой ушел на станцию…
И весь вагон утирает слезы, и Юрий Павлович тоже и отдает ему все деньги, которые наскреб в карманах.
А инвалид на двух культяпках, сверкнув на нас острым, пронзительным, хитрым глазом, решает отблагодарить щедрого штатского и снова разводит мехи, и снова хриплый, берущий за душу голос, но на этот раз уже не песня о неверной жене, а вовсе, куплеты из оперетты «Сильва».
И Юрию Павловичу не по себе, нервничает и не хочет больше смотреть на инвалида, а тот только «разгорается», и вот уже слышим салонно-цыганский романс «…и разошлись как в море корабли…».
— А я-то думал, он сам сочинил эту песню про неверную жену, — разочарованно шепчет Герман. — И хотел уже написать об этом рассказ. А он, оказывается, профессионал… Перейдем-ка в другой вагон…
Сели за стол. Германа «озаряет»:
— Слушай, а если начать с песни?
— С какой?
— Ну, этого инвалида…
— Там же есть приметы нашего времени — нельзя…
Читать дальше