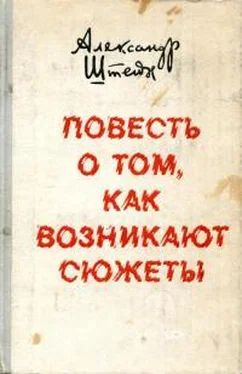Лавренев решает загадку так: Бенкендорфу было выгодно лермонтовское обвинение, адресованное «надменным потомкам» русской аристократии и заезжим авантюристам — оно было «оправдательным документом» Бенкендорфа, оно отводило от Бенкендорфа прямое обвинение в убийстве Пушкина.
Я не пушкинист, не лермонтовед, как и подавляющее большинство моих вероятных читателей, и мы все не знаем, верна эта гипотеза или обманчива. Но она типична для самого Лавренева и потому рождает отличные сцены в пьесе, такую, например, как встреча мягкотелого, умеренного, либерального Жуковского с хитрым и жестоким Бенкендорфом.
И вторая загадка дразнила лавреневское воображение своей необъяснимостью. Почему Белинский пришел к Лермонтову, сидевшему на гауптвахте?
Белинский, ранее звавший Лермонтова надутым барином! Издевавшийся над его светской беспутностью, пустотой!
Почему?
Этого никто не знал, как и того, о чем был четырехчасовой разговор двух таких разных и двух таких великих людей.
Но Белинский сказал однажды, что там, на гауптвахте, увидел Лермонтова в истинном свете. Но Панаев в воспоминаниях бегло сказал о рандеву на гауптвахте.
Лавреневу этого довольно для гипотезы. Ведь есть письма Белинского и к Белинскому, есть статьи Белинского, есть проза и стихи Лермонтова, есть и его эпистолярное наследие. И Лавренев уже видит эту сцену в подробностях, в цвете — даже «обнаруживает» пропойцу штабс-капитана, оказавшегося лермонтовским коллегой по заключению и случайным свидетелем памятного свидания. Он должен был быть для заземления возвышенного диалога — и вот возник и живет пьяница-офицер.
Загадка раскрыта приемами художественной гипотезы. Пусть ее оспаривают лермонтоведы — она создана…
Не в этих ли загадках и шифр к разгадке художественной натуры самого Лавренева? Ключ к законам, двигавшим его рассказы и пьесы по литературной орбите и то взмывавших его самого вверх, то, напротив, заставлявших камнем лететь вниз — с выключенным мотором?
Не оттого ли писали о Лавреневе, особенно о Лавреневе-прозаике, в начале его литературного пути до безвкусицы обильно, а в конце до безвкусицы скудно? О нем, как о прозаике, забыли, чему, кстати сказать, способствовала не столько короткая память издательств, сколько робость, порожденная инерцией бесконфликтности, — ничего не было так антагонистично теории борьбы «лучшего с хорошим», как лавреневская проза… И, кстати сказать, вышедший незадолго до смерти, после многолетнего антракта, двухтомник избранных повестей и рассказов разошелся почти мгновенно…
Нет, не одни огни, не одни цветы: после взлетов — падения, бывало, расшибался больно, бывали и паузы — длинные-длинные, несравненно длинней мхатовских…
Предвоенная пауза длилась тоже долго, и это было тоже очень мучительно — пауза, прерванная войной…
А меж тем слава явилась к нему запросто, без околичностей, сама поспешила нанести ему визит, еще когда он спал, приехав в Ленинград, бесприютный, в своей старой артиллерийской шинели, на полу, на газетах, в нетопленой комнате одного давнего своего туркестанского дружка, ныне покойного поэта Михаила Фромана, или у другого, Павла Лукницкого; еще когда пописывал фельетоны в еженедельной профсоюзной газете «Ленинградский рабочий». Уже сходили тогда с машин свежие листы «Красного Журнала для всех» и «Альманаха Красного Журнала для всех», и «Звезды» с его повестями — «Ветер», «Звездный цвет» и «Сорок первый».
Примечательно: все три повести, давшие повсеместную популярность его имени, напечатаны почти одновременно с небольшими интервалами, на протяжении всего лишь четырех месяцев — с мая по август 1924 года.
Случай в литературе необычный. Но необычное в духе самого Лавренева, его жизни, его книг.
Повести сразу же переиздали, сразу же перевели на многие языки. Сразу же инсценировали, сразу же экранизировали.
Экранизировали и вышедший позже «Рассказ о простой вещи» — приключенческий фильм «Леон Кутюрье» — один из первых о советском разведчике. Чухрай еще не родился, а знаменитый Протазанов уже снял «Сорок первый». Не родился и Олег Стриженов, а Коваль-Самборский, красавец с льняными волосами, сыграл синеокого Говоруху-Отрока.
Синеок ли Говоруха, еще нельзя было определить в черно-белом кино. Но черно-белая немая лента имела успех не меньший, нежели цветной говорящий фильм, сделанный тремя десятилетиями позже.
Экранизировали один за другим разные рассказы Лавренева.
Читать дальше