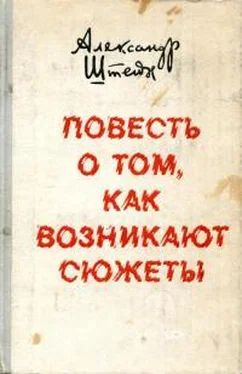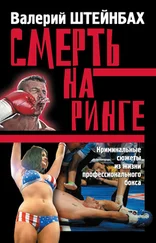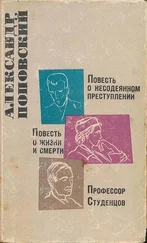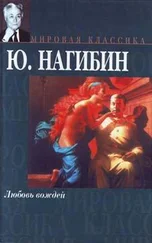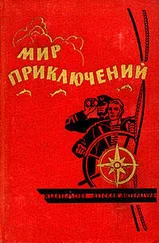А по борту большие буквы, из которых складываются имя и фамилия человека, которого ты знал как человека, а не как корабль.
Человек, который посылал когда-то тебя, мальчика, учиться, который был когда-то твоим соседом по даче, — теперь большой, океанский теплоход «Борис Лавренев».
И ты поднимаешься по трапу, и с борта на тебя смотрят люди в форме моряков торгового флота, сами себя называющие лавреневцами…
А до этой встречи — самолет, летящий в Херсон, и рядом, в креслах воздушного салона, — Елизавета Михайловна, жена Бориса Андреевича, уже плававшая по морям на теплоходе «Борис Лавренев», и внук его, Лавренев Алеша, и старинный друг Павел Лукницкий, тот самый, у которого на квартире в Ленинграде, тогда еще Петрограде, приехавший из Средней Азии сотрудник «Туркестанской правды», фельетонист, дописывал свои «Ветер», «Звездный цвет» и «Сорок первый», сделавшие его знаменитым писателем.
И потом — мальчики и девочки, маленькие и большие, с букетами и букетиками цветов, и учителя с такими же букетами и букетиками — это все школа имени Бориса Лавренева, старейшая в Херсоне, — и путешествие по лавреневской школе, и лавреневская стена, на которой память о писателе — его книги, автографы, портреты, афиши, фотографии, которые ты знал, и те, что не знал, и листочки рукописей.
Сам Борис Андреевич был тут, в Херсоне, незадолго до смерти, и бродил с Елизаветой Михайловной по городу, и показывал дом, в котором жил (сейчас на нем мемориальная доска), и зашел в школу, ту самую, где мы сейчас, и показал парту, на которой сидел когда-то, — конечно же это была парта на школьной Камчатке, там можно было вести себя вольготней, нежели на виду у учителей. И сейчас на этой парте мы видим дощечку, напоминающую о том, что эта парта ученика Бориса Сергеева…
Сергеев — настоящая фамилия Лавренева…
«Над крутым обрывом правого берега Днепра встают полуразрушенные, густо заросшие дерезой и бурьяном валы старой крепости, построенной в конце XVIII века Суворовым… Возле крепости разлегся по берегу уютный, ласковый город. Обилием зелени он похож на парк, и летом, когда цветут акации, улицы засыпаны душистой шуршащей пеной опавших лепестков, по которым идешь, как по ковру. Имя города — Херсон. В этом городе я родился 17 июля 1891 года. Родители мои были педагогами и всю жизнь несли скромное, но почетное звание просветителей — народных учителей…»
Это из короткой повести о себе, написанной Борисом Лавреневым в 1958 году, за год до смерти.
Родился в девятнадцатом веке, умер в 1959 году, когда двадцатый век уже перевалил за вторую половину.
В 1971 году, когда Лавреневу исполнилось бы восемьдесят лет, на долгие месяцы ушел в мировой океан, в очередной дальний рейс к экзотическим берегам теплоход «Борис Лавренев».
Порт приписки теплохода — Одесса.
Отсюда, из Одессы, задолго до революции, сбежал тайком из родительского дома, ушел в заграничный рейс и херсонский гимназист Боря Сергеев, будущий Борис Лавренев.
Сам он за год до смерти, рассказывая об этом своем дерзком мальчишеском побеге в «Короткой повести о себе», как бы приоткрывает одну из дверей в лабораторию художника.
«В Александрии сошел с парохода в намерении поступить матросом на какой-нибудь корабль, идущий в Гонолулу. Но таких кораблей не было. Небольшую сумму денег я быстро проел на восточные сладости, с голода таскал бананы у торговок на рынке и, вероятно, кончил бы плохо, если бы судьба не послала мне спасителя в лице старого механика французского стимера, который устроил меня палубным юнгой.
Я плавал два месяца, пока меня не сняли с палубы в Бриндизи два расфуфыренных, как индюки, итальянских карабинера, и с курьером консульства я был отправлен в Россию. История этого побега много лет спустя вошла в рассказ «Марина».
Но это плавание разбередило мою любовь к морю, и я решил обязательно стать моряком».
В дни восьмидесятилетия со дня рождения писателя пришло в Москву письмо из Коломбо — экипаж парохода «Борис Лавренев» сообщал о том, что на стоянках в иностранных портах на палубу корабля поднимались местные жители, и моряки вели их в музей Лавренева, созданный руками этих моряков…
И я вспомнил снова «Короткую повесть о себе» и рассказ «Марина» и снова перечел прелестные строки из этой ранней лавреневской новеллы, где повествуется о механике мсье Мишеле, подобравшем голодного мальчика, мсье Мишеле, участнике многих революционных вспышек, мсье Мишеле, повторявшем одну «всегдашнюю священную фразу»:
Читать дальше