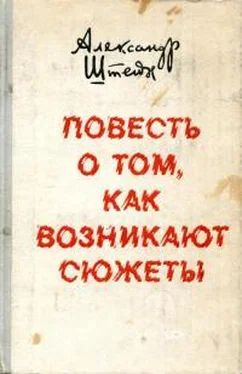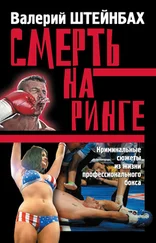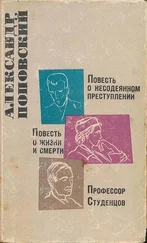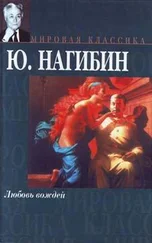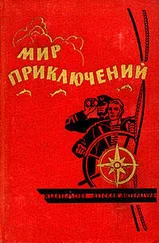В юности Погодин, кочуя с журналистским блокнотом по городам и весям, грозился стать поэтом, притом — знаменитым. Писал даже стихи, в духе, прямо скажем, не слишком высоких по вкусу поэз Игоря Северянина, и сообщал друзьям, подтрунивавшим над ним, что и он будет, подобно Северянину, повсеместно «обэкранен».
Поэта из него не вышло, к стихам возвращался только в дни рождений, в кругу семьи.
И вот в драматургии стал поэтом.
И эту особенность погодинской драматургии тоже разгадал Алексей Дмитриевич Попов.
И поэзия состоялась — не в рифмах, а в диалогах.
Мне нравятся названия погодинских пьес. Как правило, они короткие.
«Темп». «Моль». «Снег». «Аристократы».
Всегда — с изюминкой.
«Кремлевские куранты». «Миссурийский вальс». «Сонет Петрарки». «Маленькая студентка». «Багровые облака». «Мы втроем поехали на целину». «Третья патетическая». «Человек с ружьем». «После бала». «Мой друг».
«Мой друг»…
— Коля, ошиблись, — сказал Алексей Дмитриевич Попов, устало вглядываясь в такого же усталого и безжизненного Погодина после того, как оба они, режиссер и автор, закрыв наглухо все входы в зрительный зал, посмотрели генеральную репетицию «Моего друга».
Актеры играли в пустом зале, как говорят в театре — «в трубу».
Играли — без нерва, без вдохновения, пусто, скучно. То ли недорепетировали, то ли перерепетировали — прогон прошел безнадежно.
— Мне тоже думается, — уныло мотнул головой Погодин. — Ошиблись. Будет провал. Стыдно.
Рассказывал мне об этом Николай Федорович, когда ехал со мной много лет спустя из Переделкина в Москву, спешил на генеральную какой-то своей пьесы, не помню, что это было.
Спешил и — нервничал.
И вспомнил прошлое.
Еле заставили себя тогда Попов и Погодин прийти на следующий день на премьеру.
Погодин рассказывал — ему противна была в тот день собственная пьеса.
И пришел зритель.
И был триумф.
И пьеса покатилась по всей стране.
Я помню спектакль у нас в Ленинграде, в Большом драматическом театре — восхитительно играл Лаврентьев, я написал восторженный отклик в «Вечерней Красной газете».
Зритель — великий корректировщик всех авторских, режиссерских и актерских прогнозов.
Приходит в зал и решает — точно ли ложатся снаряды…
Вспомнил, отчего нервничал Погодин, когда ехал из Переделкина, почему затеял разговор о мнимом провале «Моего друга».
Снова, спустя много лет, играли «Моего друга» в Москве. Снова — под эгидой Алексея Дмитриевича Попова.
Спектакль был — успеха не было.
Устарела пьеса? Отшумели ее страсти? Старомоден и чужд показался герой?
А может быть, все дело — в решении?
В том, чтобы открыть заново старую пьесу?
Не симптоматично ли: вернулись опять к погодинскому «Моему другу» уже в 1972 году…
Самого Погодина уже не было.
Но горячая кровь погодинского друга забурлила в век научно-технической революции.
Новые времена потребовали новых решений — не только в жизни, на сцене — тоже.
И, главное, поиска.
То есть того, что было характерно всегда для самого Погодина.
Не будем гадать, «пришлось ли бы» самому Погодину то, что сделал Марк Захаров, режиссер острой современной выдумки и молодых сценических решений. Ведь погодинские пьесы стали основой… для музыкального спектакля.
Погодин был человеком неожиданным, как и его драматургия.
Может, и рассердился бы.
А может, и пришел бы в восторг.
Незаурядный успех пьесы «Мой друг» совмещался с незаурядными на нее нападками. Бывает… Погодин был обвинен — в прославлении делячества. В воображении противников драматурга его друг выступал как… американский бизнесмен на советский лад. Да полно — на советский ли? «У людей, подобных Гаю, нет будущего». «Нет и не может быть!»
Почему нападки на Гая носили столь агрессивный характер?
Полагаю — потому, что Погодин писал не абстрактную фигуру, но — с натуры.
Не то, что будет. То, что было.
Утром 29 января 1955 года, развернув «Литературную газету», читатели ее прочли статью художника, славившегося своей придирчивостью к сценическому искусству.
Кончалась она так:
«Мне хотелось сказать без оговорок и прямо о том, что в наших рядах появился новый большой драматический талант».
Строки эти принадлежали Погодину, пьеса в «В добрый час» — о ней шла речь — в полной мере оправдала погодинское пророчество: с подмостков Центрального Детского театра пьеса молниеносно перекочевала на «взрослые сцены», и поставили ее сто пятьдесят девять театров.
Читать дальше