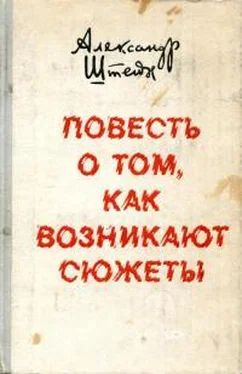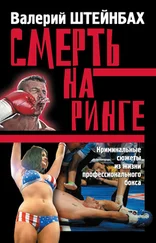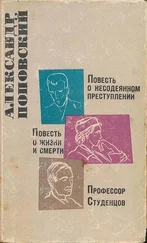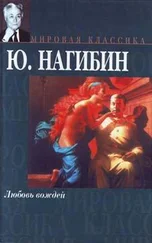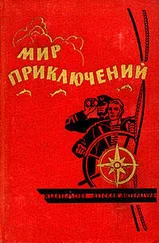Само появление такого человека на земле было, с точки зрения тысячелетних устоев и норм, иллюзий и представлений, — непорядком.
И Погодин открыл нам на сцене его, этого человека, этот гениальный непорядок.
Тут сдвинулись наши обычные суждения о так называемом конфликте.
В один из своих приездов в Ленинград, когда я уже окончательно переехал в Москву, шел по Невскому, и там, где бывшая Надеждинская улица выплескивалась в центральную ленинградскую артерию, невольно остановился, захваченный одним воспоминанием о тридцатых годах.
Здесь, напротив Надеждинской, в кинотеатре — первое впечатление от первого появления его — движущегося, разговаривающего, улыбающегося, гневающегося, думающего, спящего…
Это было потрясение.
Рядовой зрительный зал, зал очередного сеанса, устроил овацию.
Многие еще помнили, видели, знали его — живого…
Большое число людей было в Ленинграде, особенно на старых петербургских заводах, на Выборгской стороне, на Васильевском, за Невской заставой, встречавшихся с ним, разговаривавших с ним, слышавших его речь. И — его речи.
Тем более — акция смелости художников — показать на экране и на сцене его таким, каким они, художники, его видели.
Мне рассказывал Максим Максимович Штраух — где-то читал, — один художник, рисовавший Ленина, спросил:
— Ну как, Владимир Ильич, похожи вы на портрет?
Ответил, мягко улыбнувшись:
— Похож-то похож, а вот вас не вижу.
Щукин и Штраух, первыми сыгравшие Ленина, каждый по-своему искали своих решений.
И каждого из них было видно.
Щукин, как известно, внешне не был похож на Ленина.
Несколько раз доводилось мне иметь честь работать с Штраухом, и он тоже в жизни нисколько не похож на Ленина.
Но на сцене, на экране и Щукин и Штраух поражали абсолютным сходством.
Больше того, у многих, и у меня в том числе, облик Ленина подсознательно скорей ассоциируется с виденным в театре и кино, чем с известными портретами художников.
Это факт.
Поначалу, тогда в кинотеатре на Невском, все было для нас, зрителей очередного сеанса, откровением, открытием — даже то, как грассировал Щукин, как закладывал он пальцы за проймы жилета. Открытием стала и игра Максима Штрауха в погодинском «Человеке с ружьем».
То же было и с другими исполнителями, всякий раз открывавшими образ по-новому. Там, где шел копиизм, не только не случалось открытия — была неловкость. За артиста, за драматурга.
Э. Казакевич находил в своей «Синей тетради» новые и новые решения, неожиданные, в каждом из решений была — драматургия.
Ленин и Крупская возвращаются из эмиграции в Петроград.
В поезде беспокоятся — как доберутся до дома, где будут жить, найдется ли извозчик, тем более — в пасху.
И когда Ленин увидел на площади перед Финляндским вокзалом тысячи и тысячи людей, и знамена, и факелы, то подумал — как много было сделано «в повседневной, лишенной внешних эффектов, изнурительной работе, иногда казавшейся ничтожной по результатам, комариным укусом на теле царского исполина».
До Казакевича я не читал нигде о том, что Ленин беспокоился — найдется ли извозчик. Может быть, это где-то и есть в воспоминаниях.
Ну а если этого не было?
Все равно — деталь, найденная художником, упоительна.
Как и романтическая сцена разговора Ленина в сквере с Рыбаковым о том, что любить лучше по-старому, и там же, в сквере, — с рабочими и нищенкой…
Я ее ценю гораздо выше, по художественному счету, нежели знаменитую, игравшуюся на всех концертах сцену встречи с неким английским писателем — подразумевается Герберт Уэллс.
Потому что сцена в сквере была открытием, неожиданностью, любимым Погодиным непорядком…
А была ли реальная нищенка — разве важно?
Странно подумать, но Левин жил с нами, если считать революционное летосчисление с семнадцатого года, всего семь лет.
1917—1924.
За эти семь лет памятников себе не воздвигал, с Конфуцием не боролся, своим именем города не именовал. Грозился расстреливать тех, кто бы это посмел сделать. Угроза расстрелом была шутливым преувеличением, свойственным Владимиру Ильичу, — по своим не стрелял никогда, ни при каких обстоятельствах.
Осенью 1961 года был я в Париже, на улице Мари-Роз, в квартире, где жил Владимир Ильич, — две комнаты, кухня, она же «приемная» Владимира Ильича. Тут сидел он с Камо, человеком, приговоренным к смерти, симулировавшим несколько лет в камере смертников сумасшествие. Обманув жандармов, бежал из психиатрической больницы. Прячась в трюме, пробрался в Париж — только для того, чтобы увидеть Ленина, потолковать с ним. Собирался вернуться домой, на Кавказ, морем. Ленин посоветовал ему сделать глазную операцию в Бельгии, он косил, шпики могли опознать.
Читать дальше