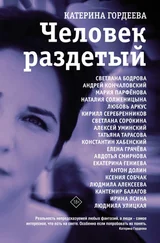Дедушкин арест вкатился в жизнь семьи черной шаровой молнией, но как шла потом его лагерная жизнь, мы плохо представляли. Александр Исаевич был именно тем человеком, который такую жизнь описал. И дальше я читала всё солженицынское, что появлялось в «Новом мире» и в самиздате: и «В круге первом», и «Раковый корпус», и, конечно, была влюблена в него как в писателя. Но это неправильное слово: «влюблена». Я понимала, что он – колоссальное явление литературы и жизни нашей. А познакомила нас Наталья Ивановна Столярова, наш общий близкий друг.
– Как это получилось?
– Александр Исаевич жил в Рязани, но наезжал в Москву, ему нужны были исторические книги и материалы для работы, и нужно было хранить написанное, где-то держать рукописи и рабочие наброски, которых становилось всё больше. Нужны были друзья, которые бы разгрузили его и как-то помогли в этих заботах. Я была одной из тех, кого в помощь ему нашла Наталья Ивановна. И всё произошло стремительно: я впряглась в работу, он мне дал как раз перепечатывать «В круге первом». Я нашла там неточности по линии истории партии, что его очень поразило (а я их нашла потому, что еще в школьные годы с большим интересом читала стенограммы съездов, оставшиеся от деда). И началась очень интенсивная работа и мощное сотрудничество, которое скоро перешло в бурный роман.
– Вы отдавали себе отчет в том, что это та самая любовь – на всю жизнь?
– Не думаю, что я себе это так проговаривала. Но, безусловно, это была именно та любовь, от которой рождаются дети. И которая детьми не кончается.
– У вас восемь внуков от четверых сыновей. Вы часто говорите с ними о дедушке?
– Пятеро из них помнят Александра Исаевича, они его застали. Нет особой нужды как-то специально говорить о дедушке, но вся атмосфера нашей жизни им пропитана.
– Вы хорошая бабушка?
– Плохая. То есть я хорошая бабушка в том смысле, что когда я нахожу на них время, то польза от этого немалая: за несколько лет мы с ними поставили вместе «Ромео и Джульетту», «Двенадцатую ночь», «Сирано де Бержерака» Ростана разучили, но пока не довели до представления. Я сама сокращаю пьесы исходя из величины «труппы», мы разучиваем роли, ставим спектакль. Но я – «работающая бабушка» и занимаюсь с внуками лишь тогда, когда удается быть вместе. А Александр Исаевич был хорошим отцом: он занимался с сыновьями каждый день. Каждый день один час был «школьный»: он обучил сыновей алгебре, геометрии и тригонометрии, физике и астрономии.
– Кричал?
– Нет. Не было нужды. Они были такие дети, на которых – по крайней мере ему – не надо было повышать голос. Я и кричала, и сердилась. Но я касалась другой стороны жизни. К тому же я убеждена, что родительский гнев имеет огромное воспитательное значение. Только важно не делать его обыденным, потому что маленькие дети в такую минуту думают, что всё кончено – они навсегда лишились родительской любви. И это колоссальная трагедия и встряска. И в этот момент можно многое в их понимании и поведении повернуть, исправить. Но, конечно, если это случается часто, то это уже не инструмент.
Все наши мальчики рано выучились читать и вообще рано выучились занимать себя сами: у меня не было времени, я много работала, а никаких телевизоров или других «удержателей внимания» не было. Но были диафильмы, которые мы вместе смотрели каждый вечер. И каждый из детей боролся за то, чтобы именно ему поручили читать подписи. Степа [1973 года рождения] сидел всегда унылый, потому что он был самый младший и понимал, что, когда дорастет до того, что ему поручат читать, старшим уже не будет интересно. Но вышло не так: мы семьей еще смотрели диафильмы, когда подписи уже бегло читал Степа.
– Сколько было мальчикам, когда вас выслали из СССР?
– Степану было шесть месяцев, Игнату – полтора года, старшему из «солженят», Ермолаю, – три года и два месяца. Моему старшему сыну Мите было десять.
– Каждый из «солженят» очевидно успешен в своей области. А это совершенно разные области: урбанистика, управление, музыка. Как вы растили детей, как направляли?
– Мы никогда не направляли их проповедями и нравоучениями. Такого не было даже в мыслях. Но они никогда не видели ни меня, ни Александра Исаевича в безделье. Мы всегда работали. Само собой, безо всяких слов разумелось, что праздность – состояние недолжное, что человек должен постоянно что-то делать для других. Жить только для себя безнравственно. Когда мальчики подросли, я им говорила в полушутку: «Не страшно, если жена будет некрасивая или даже глупая (конечно, лучше, чтобы и красивая, и умная). Страшно, если она будет ленивая и злая». Но, если серьезно, самой главной задачей в изгнании было сохранить русский язык. Они же были младенцами, когда нас выслали, и вокруг них сначала был океан немецкого, а потом – океан английского языка. С этой задачей мы справились. Не только наши дети, но и все внуки говорят, читают и пишут по-русски.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Катерина Гордеева Человек раздетый [Девятнадцать интервью [litres]] обложка книги](/books/403907/katerina-gordeeva-chelovek-razdetyj-devyatnadcat-i-cover.webp)
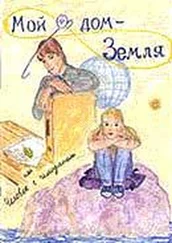

![Дмитрий Быков - Литературная мастерская [От интервью до лонгрида, от рецензии до подкаста] [litres]](/books/393469/dmitrij-bykov-literaturnaya-masterskaya-ot-intervyu-thumb.webp)
![Катерина Гордеева - Правила ведения боя. #победитьрак [litres]](/books/404193/katerina-gordeeva-pravila-vedeniya-boya-pobeditra-thumb.webp)
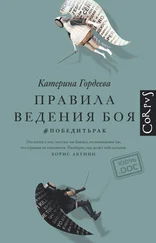
![Джоди Пиколт - Девятнадцать минут [litres]](/books/406772/dzhodi-pikolt-devyatnadcat-minut-litres-thumb.webp)
![Александр Афанасьев - Человек и то, что он сделал… Книга 2. Свершилось [litres]](/books/407516/aleksandr-afanasev-chelovek-i-to-chto-on-sdelal-k-thumb.webp)
![Энн Райс - Интервью с вампиром [litres]](/books/422071/enn-rajs-intervyu-s-vampirom-litres-thumb.webp)
![Катерина Полянская - Черный диплом с отличием [litres]](/books/422584/katerina-polyanskaya-chernyj-diplom-s-otlichiem-litre-thumb.webp)
![Джейсон Старр - Человек-Муравей. Настоящий враг [litres]](/books/427943/dzhejson-starr-chelovek-thumb.webp)
![Екатерина Верхова - Интервью с ректором [litres]](/books/435562/ekaterina-verhova-intervyu-s-rektorom-litres-thumb.webp)