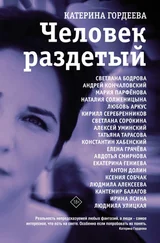– Министерству культуры, вероятно, будет лестно услышать ваше мнение. Мне трудно рассуждать в таких категориях и говорить о каких-то интересах. Всё-таки, когда подступаешь к материалу, не рассуждаешь о смыслах, которые могут проявиться в процессе создания. Не думаю, что произведение искусства исходит из каких-либо интересов, кроме желания воплотить то, что «примстилось» художнику. Вы же не спрашиваете композитора, например, какую идею он хотел раскрыть, в чем пытался убедить мир, потому что музыка – это музыка.
– И это никогда не мешало композиторам творчески высказываться по разным актуальным – в том числе и политическим – вопросам. Но речь о «Рае». Ваш фильм затрагивает сразу несколько очень болезненных для разных стран и культур тем: Холокост, французское Сопротивление, избранность русских как спасителей и освободителей всего человечества.
– Всё то, о чем вы говорите, – это уже конечный результат фильма. Такая задача в самом начале не может быть поставлена. Процесс создания в определенном смысле – это нащупывание тропинки в абсолютной темноте. В темноте можно наткнуться на тему фильма. А тема какая? Это не Холокост, не судьба француза, не судьба немца и не судьба русской женщины. Тема «Рая» – это универсальность зла и его соблазнительность. Замысел, конечно, начинается с каких-то более простых, материальных вещей, деталей и зацепок разного рода. Всё это вырастает в определенный конгломерат идей, историй и проблем. Одно наслаивается на другое. Или не наслаивается… и тогда художник может признать свою ошибку.
«Рай» для меня очень важный опыт рассуждения об амбивалентности злодеяния – это немного иная тема, чем тема Холокоста. Зло не обязательно воплощается в образе монстра. Это может быть умный, образованный, талантливый…
– Любящий Чехова…
– Да, любящий Чехова, аристократичный, красивый, удивительно цельный человек. Для меня очень важно, что он вступает в эту мутную реку зла и течение его несет. В этом смысле на меня очень подействовал роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, который попался мне тогда, как раз когда я готовился к «Раю». Я этот роман смаковал со всех сторон.
– И еще, наверное, «Банальность зла» Ханны Арендт?
– Нет, это я не читал. Еще на меня большое впечатление произвела книга «Скажи жизни “Да”» Виктора Франкла, австрийского психиатра, который провел в Освенциме три года. Но, по правде сказать, у меня никогда не было желания теоретизировать о смысле своих произведений. Однако есть одна вещь, которая для меня очень важна: полфильма три героя «Рая» прямо говорят со зрителем – в форме монолога. Монологи – самое ценное для меня в картине. Если бы не было монологов, не было бы этого фильма. Был бы какой-то другой.
– Монологи – то, как они выглядят, кем и как произносятся, – это режиссерское решение или всё было придумано еще на стадии сценария?
– Они были с самого начала. Иногда мне приходила безумная мысль оставить в картине только монологи. И всё. Самое интересное в фильме – слушать исповедь этих трех человеческих существ. Оказывается, и так можно. Никогда не думал.
– У «Франкофонии» Александра Сокурова, так же, как и «Рай», затрагивающей тему Сопротивления и коллаборационизма, во Франции были проблемы с прокатом: МИД выступил против показа в Каннах, министерство культуры и даже Лувр чуть ли не отреклись от картины. Выяснилось, что французы не вполне готовы к обсуждению этих тем посторонними.
– Саму картину Сокурова я, к сожалению, пока не видел, но очень жалею, что жюри так обошлось с ним в Венеции [16] Фильм Александра Сокурова «Франкофония» участвовал в конкурсе Венецианского фестиваля 2015 года, но не получил главных наград.
. Очень несправедливо. Я убежден, что всё, что Сокуров делает, – это обязательно произведение кинематографа – в том смысле, в котором его понимал Робер Брессон.
Что до французов, то, во-первых, у них есть нормальная цензура. Я это знаю, сам сталкивался. В свое время я пытался снять там картину про араба, который становится джихадистом. Идея простая: живя рядом с французами, можно стать джихадистом. Но снять такое нельзя, разумеется, потому что там – цензура. Во-вторых, французам крайне неприятно ворошить свое собственное прошлое. И это было совершенно правильное решение де Голля – закрыть все дела коллаборационистов на шестьдесят лет. Архивы открываются только сейчас, когда они все уже умерли. Знаете, почему де Голль принял такое решение? Потому что понимал, что нельзя раскалывать общество. Пол-Франции же были коллаборационистами, да если уж начистоту, бо́льшая ее часть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Катерина Гордеева Человек раздетый [Девятнадцать интервью [litres]] обложка книги](/books/403907/katerina-gordeeva-chelovek-razdetyj-devyatnadcat-i-cover.webp)
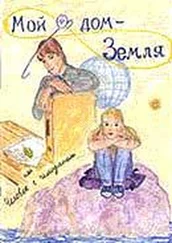

![Дмитрий Быков - Литературная мастерская [От интервью до лонгрида, от рецензии до подкаста] [litres]](/books/393469/dmitrij-bykov-literaturnaya-masterskaya-ot-intervyu-thumb.webp)
![Катерина Гордеева - Правила ведения боя. #победитьрак [litres]](/books/404193/katerina-gordeeva-pravila-vedeniya-boya-pobeditra-thumb.webp)
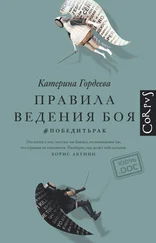
![Джоди Пиколт - Девятнадцать минут [litres]](/books/406772/dzhodi-pikolt-devyatnadcat-minut-litres-thumb.webp)
![Александр Афанасьев - Человек и то, что он сделал… Книга 2. Свершилось [litres]](/books/407516/aleksandr-afanasev-chelovek-i-to-chto-on-sdelal-k-thumb.webp)
![Энн Райс - Интервью с вампиром [litres]](/books/422071/enn-rajs-intervyu-s-vampirom-litres-thumb.webp)
![Катерина Полянская - Черный диплом с отличием [litres]](/books/422584/katerina-polyanskaya-chernyj-diplom-s-otlichiem-litre-thumb.webp)
![Джейсон Старр - Человек-Муравей. Настоящий враг [litres]](/books/427943/dzhejson-starr-chelovek-thumb.webp)
![Екатерина Верхова - Интервью с ректором [litres]](/books/435562/ekaterina-verhova-intervyu-s-rektorom-litres-thumb.webp)