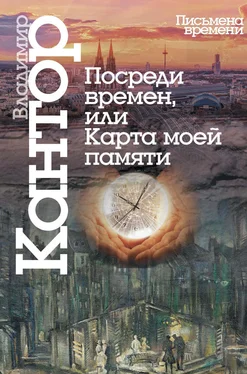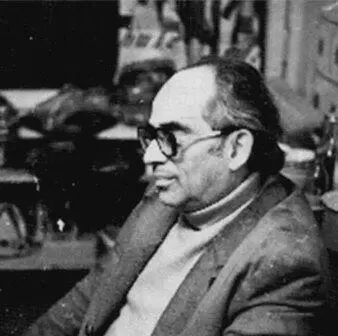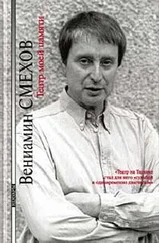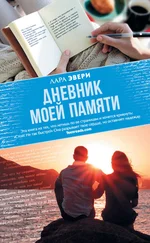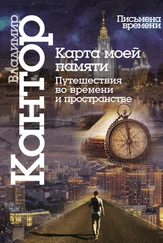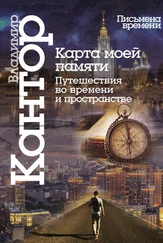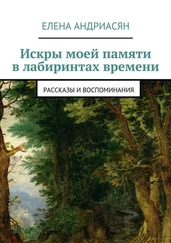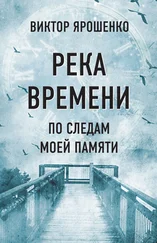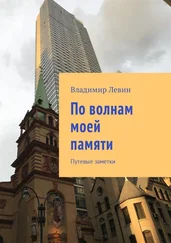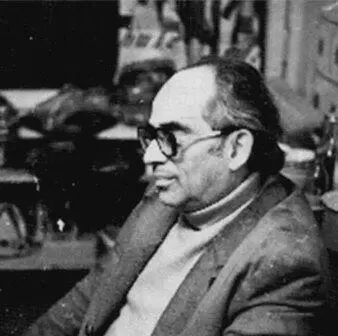
Карл Кантор
Я не удержался: «А удачные главы тоже переписывать?» Отец пожал плечами: «Ты пиши, как до них дойдешь – сам решишь!» Но тут уж меня заело. И я решил и в самом деле отложить все дела. За два с половиной года я не написал ни строчки постороннего текста. Разве что рецензию для «Знамени» на роман «Наследство», вышедший в «Октябре» и отдельным изданием в 1990 г., четыре года спустя после смерти Володи Кормера.
Когда я заканчивал роман, вновь всплыла тема укрытия, прятанья текста. В августе 1991 г. я подошел к завершающей главе под названием «Последняя возможность свободы». Я и без ГКЧП знал, что герой реализует в этой стране последнюю возможность свободы через самоубийство, попытка переворота, так мы восприняли ситуацию, казалось, добавила энергии в переживания героя. А случилось так. Утром жена мне говорила, что я многое угадываю, что многие концовки моих текстов исполняются. Я возразил, что вот, мол, написал про крокодила, а его, разумеется, нет и не будет. Вполне серьезно возразил. И тут позвонила теща. Я первый снял трубку. Обычно она со мной не говорила, сразу требовала к телефону дочку. Но тут сказала быстрым голосом: «В стране переворот. У власти какое-то ГКЧП. Включите телевизор». Перед этим я закончил предпоследнюю главу «После смерти», которую Марина прочитала через плечо и сказала, что ей страшно здесь жить. А теперь, включив телевизор и увидев лица людей, как бы отстранивших Горбачёва, обещавших навести порядок в стране и уже пославших танки в Прибалтику, мы оторопели. «Ну вот, – сказала Марина, – вот и крокодил пришел». Утром я пошел на работу, двигаясь между танков, которые оккупировали Москву. Адреналин был на высоте. А вскоре началась осада Белого дома. Первая реакция была – ехать. Там друзья. Но жена сказала: «А мне кажется, надо тебе дописывать роман. Ты столько над ним сидел. Было бы глупо не завершить работу. А потом думать, куда его снова прятать…». И писал я, не разгибаясь, пока шла борьба вокруг Белого дома, пока гекачеписты мотались в Форос к Горбачёву, отрывался только, чтобы послушать «Эхо Москвы». И я дописал роман за три дня, к моменту завершения всей истории с ГКЧП. И отец на сей раз сказал все хвалебные слова, какие мог. Это, конечно, для меня было очень важно, потому что я доверял ему полностью: он всегда говорил то, что думал.
Но мысль о том, что надо найти роману некое надежное укрытие, меня не оставляла. Не было ощущения, как, скажем, у Солженицына, что этот текст откроет кому-нибудь глаза на что-нибудь, сообщит правду о, скажем, советском строе, но туда была вложена душа и много лет работы, напряженного творческого писания, и не хотелось, чтобы это пропало. Хотелось, чтобы хоть кто-то услышал мой внутренний голос. Сразу скажу, что полный текст романа так и не был опубликован, печатались отрывки, сокращенные варианты, даже отдельной книгой роман вышел изрядно сокращенный. Но об этом еще расскажу. Пока же доведу до логического завершения тему «прятать». В конце 1991 г., под Новый год, позвонила мне домой Дагмар Херрманн, с которой я познакомился в 1990 г. в Германии. Дагмар была сотрудницей в огромном проекте Льва Копелева «Немцы глазами русских и русские глазами немцев». Сотрудники копелевского проекта были тесно связаны с фондом Генриха Бёлля, куда Дагмар передала мои книги. Собственно, она и рассказала мне о фонде, без нее я бы никогда и не подумал, что кто-то может меня пригласить в другую страну, чтобы я мог писать и получать при этом стипендию. Это было выше моего советского понимания, ибо в СССР такого рода оплаченные дома творчества получали советские маститые, доказавшие свою верность власти. И вот она сказала, что мои книги победили по трем номинациям и что я получаю стипендию фонда Бёлля на 1992 год, на полгода, начиная с июля, что весной она приедет с коллегой в Москву по делам и передаст мне деньги на дорогу: «Поздравляю вас с наступающим немецким годом». И когда они приехали, я упросил Дагмар забрать рукопись романа, пусть хранится она в Германии: кто знает, какое еще ГКЧП объявится в России. «Только рукопись тяжелая», – сказал я, извиняясь. «Такая тяжесть только в радость», – ответила почти в рифму немецкая красивая женщина и христианка.
Печатать, или Ожидание счастья
Я, если честно, ожидал чего-то похожего на счастье, счастья не случайного, а заслуженного многолетней работой. Первый раз в истории моих художественных писаний я был уверен, что текст будет напечатан, и даже знал, в каком издательстве – в издательстве им. Сабашниковых, где в 1991 г. вышел роман-сказка «Победитель крыс» огромным тиражом. Издатели знали, что я пишу очень большой роман, и были готовы его издать. И когда они прочитали текст, то приняли его, роман им понравился. «Если бы в нашей стране существовала живая литературная критика и естественно и свободно выражалось общественное мнение, этот роман вызвал бы бурю: и хулы, и хвалы. <���…> С жестокой беспощадностью, позволительной только искусству, автор романа всматривается в человека – в его интимных, низменных и высоких поступках и переживаниях. А в общем основные темы просты и жутковаты: любовь, насилие, смерть», – так они анонсировали этот роман в 1992 г. Во всяком случае, когда я в июле уезжал в Германию на стипендию Бёлля, уже была верстка романа (она до сих пор у меня хранится). При этом русский издатель отправил дайджест романа во французское издательство «Фламмарион», которое пообещало, что сразу после выхода романа в издательстве Сабашниковых он будет переведен и издан во Франции. Так что ехал я в приподнятом настроении, в ожидании должного наступить счастья, более того, как последний идиот, рассказывал немецким литературным знакомым, что у меня должен выйти новый роман по-русски и практически сразу по-французски. И, конечно, сглазил! Нельзя о таком рассказывать встречным и поперечным, надо иметь простое писательское суеверие. Но я нес в себе уверенность, что, говоря словами пиратов из романтически-приключенческих книг, поймал ветер удачи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу