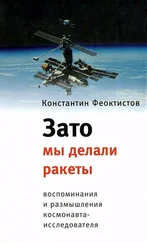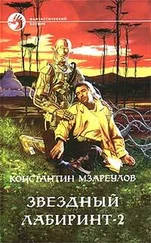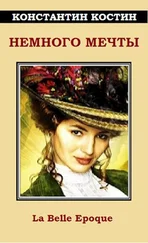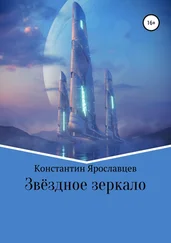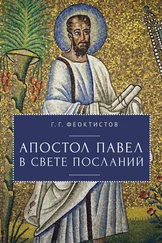Интересно, что в 1964 году я действительно слетал в космос. Совпадение, конечно, случайное. Но у меня был железный расчет: школу окончу, пять лет на институт и еще лет пятнадцать на разные исследования, проектирование, постройку корабля и подготовку к полету. Меня и самого несколько удивляет свое детское увлечение: ведь тогда, в 30-е годы, все мечтали об авиации, самолеты — в кино, на фотографиях, но у меня особой тяги к ним не было. А ракету тогда и представить было непросто — только и было, что рисунки.
Мой интерес к космосу также «подогрел» фильм «Космический рейс». В то время, в середине тридцатых годов, он пользовался популярностью, особенно у нас, мальчишек. Отчетливо запомнил фрагмент фильма, когда под некоторым наклоном стартует огромная космическая ракета. Много позже, уже будучи взрослым, я узнал, что план сценария и альбом картин для фильма был составлен Константином Эдуардовичем Циолковским. Он также консультировал автора сценария А. А. Филимонова и режиссера В. Н. Журавлева.
Правда, в седьмом классе я изменил своей мечте — увлекся идеей передачи электроэнергии без проводов. Казалось несложно — преобразовать энергию в токи высокой частоты и сконцентрировать в направленный луч. Смущало одно: если пролетающий самолет наткнется на луч, то сгорит. Интересно, что именно таким способом предполагают передавать энергию на Землю с будущих космических солнечных электростанций. И проблема с самолетами, пролетающими область радиолуча, все еще остается. Конечно, самолет не сгорит. Но не будет ли вреда пассажирам? Не повлияет ли радиолуч на работу самолетной электронной аппаратуры? Как будет влиять радиоизлучение на птиц, находящихся в зоне радиолуча? Есть предварительные сведения, что птицы чувствуют мощное радиоизлучение и стремятся покинуть опасную зону…
Но это уже перечень сегодняшних проблем, а тогда я записался в энергетический кружок городского Дома пионеров. Для начала попробовал сделать генератор с постоянным магнитом. Но пальцы меня не слушались — нужный зазор между ротором и статором никак не получался… Энергетиком я не стал, время же, проведенное в кружке, мне хорошо запомнилось. Там был прекрасный руководитель-инженер, умница (жаль, фамилию не помню), и ребята хорошие подобрались. Вместе работали, вместе домой возвращались и много всяких вопросов обсуждали. Главное ощущение от атмосферы наших споров и бесед — это уверенность в том, что в технике можно всё сделать, построить всё, что захочется. Теперь у меня такой уверенности уже нет.
Поступив в кружок, я снова вернулся к своей мечте о космических полетах, к тому же теперь я был уверен — для создания космических кораблей потребуются широкие инженерные знания. Их надо приобретать.
— Так никогда и не испытав колебаний в выборе профессии?
— Если говорить честно, где-то ближе к десятому классу они возникли. Показалось вдруг, что лучшее выбрать такое дело, чтобы поездить можно было, на мир посмотреть. Геологоразведчиком, например, стать или дипломатом. Но перед самым окончанием школы снова попалась книга о космонавтике — «Полет в мировое пространство» Макса Валье. В предисловии к русскому изданию, вышедшему в 1936 году, на странице седьмой, я встретил такие слова: «Советуем начать чтение с пользующейся заслуженной известностью мастерски написанной книги Я. И. Перельмана „Межпланетные путешествия“, а после нее прочитать книгу Валье. Обе эти книги являются как бы первой и второй ступенью трудности…» В книге Валье, как и у Перельмана, всё было достаточно понятно, но тема излагалась серьезнее и даже увлекательнее. Тогда-то родились собственные мысли о возможной конструкции космического корабля, способного полететь.
— Какие другие книги по космонавтике читались тогда?
— Была в 30-е годы популярная, например, серия выпусков Н. А. Рынина «Межпланетные путешествия». Выходили и специальные, но тоже не очень сложные книги К. Э. Циолковского, Ю. В. Кондратюка, Ф. А. Цандера, С. П. Королева, В. П. Глушко и Г. Э. Лангемака, М. К. Тихонравова, Г. Ноордунга и другие.
— Расскажите немного об учебе в институте.
— Когда подошло время поступления в вуз, я уже твердо решил: надо идти в авиационный. Он, как я понимал тогда, был ближе всего к космонавтике. Школу я закончил в Коканде в 43-м году. Аттестат — одни пятерки, значит, мог поступать в институт без экзаменов. И я послал документы в Московский авиационный. Сижу в Коканде, жду вызова, а его всё нет. Наконец, пришла бумага. Собрал я вещи и поехал в столицу. Явился в МАИ, а мне говорят: опоздали на месяц, прием давно закончен. Что делать? Переживал недолго — узнал, что можно поступить в МВТУ (училище только что вернулось из эвакуации). И подался туда. Поступил на факультет тепловых и гидравлических машин. Хотя это казалось далеким от космической техники, но не чересчур — ракетный двигатель все-таки тоже тепловая машина. Через год, думаю, переведусь в МАИ.
Читать дальше
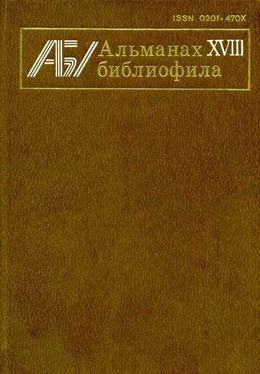
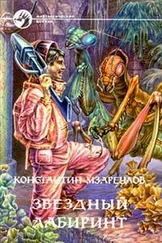
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](/books/68351/konstantin-aksakov-valter-ejzenberg-zhizn-v-mecht-thumb.webp)