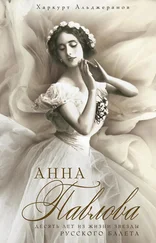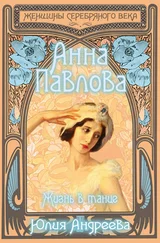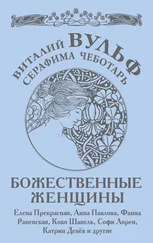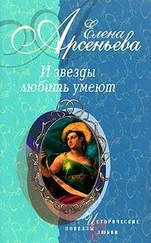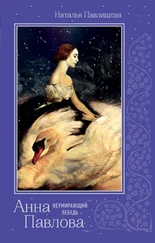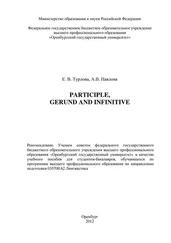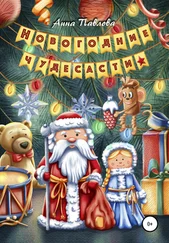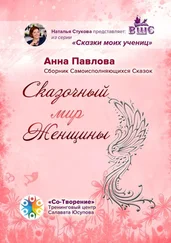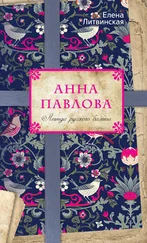Фокин заново поставил балет, отбросив монахов, крестьян, итальянских плясуний. Великий художник умел отказаться от совершенного ради новой высокой цели.
«Шопениана» стала эмблемой первого сезона русского балета в Париже. Над суетой города — диктатора вкусов в искусстве, на голубоватом фоне серовских афиш возник силуэт сильфиды — Павловой.
Тогда содружество Павловой и Фокина подходило к концу.
1907 год был его расцветом.
С 16 мая они гастролировали в Москве на сцене театра «Эрмитаж».
Беззаботная молодая труппа заняла в поезде целый вагон. На перроне Николаевского вокзала гастролеров провожала толпа родственников, поклонников, друзей. Элегантные дорожные туалеты, огромные шляпы в перьях, цветах. По воздуху передавали букеты, картонки, коробки конфет. Над головами плыли говор и смех...
Репертуар был разнообразен. В труппе собрались отборные силы: Егорова, Виль, Шоллар, Евгения Лопухова, Фокин, Обухов, Ширяев, Больм. Кордебалета было двенадцать пар.
Они открыли свой сезон «Пахитой». А потом пошли «Волшебная флейта», «Коппелия», «Капризы бабочки», «Тщетная предосторожность», дивертисмент, в котором Павлова исполняла панадерос из «Раймонды», вальс Шопена, танец семи покрывал.
Павлова танцевала все балеты подряд, впервые узнавая радость поспешных и напряженных репетиций, ежевечернее волнение гастролей.
Весь этот месяц она прямо-таки жила в театре, лишь в перерыве между репетициями выходя посидеть в саду.
Ей было некогда участвовать в эскападах товарищей, отправлявшихся то на Воробьевы горы, то в «Славянский базар», то просто веселой гурьбой по городу.
В этих гастролях завязалось немало романов. Танцовщик Сергей Уланов влюбился в молоденькую кордебалетную Марусю Романову. О ней, кстати, писал после выпускного спектакля Светлов: «У воспитанницы Романовой много экспрессии в танцах и есть что-то напоминающее танцы г-жи Павловой: блеск исполнения и стремительность». Дело кончилось свадьбой... А через три года в семье Улановых родилась девочка, которую назвали Галиной.
Павлова не ходила никуда. Она выступала, репетировала и училась запоем.
В Петербурге она добилась того, что знаменитый маэстро Чекетти сделался ее «придворным» наставником.
Добродушный живой старик умел работать. Они часами оставались вдвоем в ее новом «собственном» зале с кафельной печью, расписанной «ампирными» веночками, с фризом танцующих нимф под высоким потолком.
В декабре Фокин там поставил «Лебедя».
Она плыла на пальцах, проверяя в зеркале взмахи рук. Фокин шел рядом, шепотом подсказывая движения. Маленький маэстро Чекетти примостился на стуле: его маслянисто-черные глаза следовали за ней, внимательные, серьезные.
«Лебедь» восстановил поколебленные отношении между хореографом и балериной.
Дело в том, что в богатом событиями году состоялась еще и премьера «Павильона Армиды».
25 ноября 1907 года. Значительная для русского театра дата. Балет, наконец-то заказанный Фокину дирекцией. Для Павловой же — первая премьера.
Но это и первый балет, в статьях о котором верный рыцарь Павловой — Светлов еле упоминал о своей Прекрасной даме.
Нарядный и таинственный анекдот об Армиде XVIII века: она сошла с потускневшего гобелена, чтобы погубить путника, заночевавшего в павильоне — свидетеле ее былых забав.
Красота, воскресающая на миг, чтобы исчезнуть с восходом солнца.
Казалось бы, павловская тема.
Почему же Павлова невзлюбила этот балет?
Может быть, потому, что в веренице танцев терялась партия самой Армиды?
Но мало ли танцев было в той же, например, «Баядерке»?
Правда, там танцы готовили выход героини, служили подножием ее драмы. Здесь же драма была лишь поводом для сочинения не столько даже танцев, сколько атмосферы версальского праздника. Да и была ли там драма?
Выцветший ковер вспыхивал радугой красок, обретал третье измерение. На фоне фонтанов и замысловатых куртин, в подстриженных аллеях парка красавица соблазняла своего Ринальдо — Ренэ. В венке дивертисментных номеров возникал изящнейший «плач Армиды» — сложный маскарад чувств: ведь призрачная красавица и прежде, в жизни, была не самой собой, рядилась в костюм придуманной героини.
Жидель, Никия, даже Аспиччия и Медора «плакали и требовали» не так. Наивная правда их переживаний рождала чистую и сильную музыку «нежнейшей скрипки» — павловской души.
А изысканное зрелище «Армиды» настраивало Зал на созерцательный лад, любовно рисуя среду,, но не характер, не драму, не борьбу судеб и чувств.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу