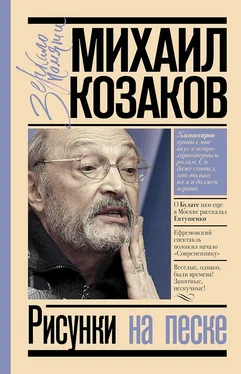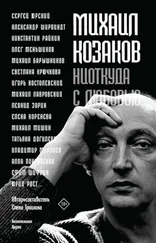1 ...5 6 7 9 10 11 ...238 Зоя-бабушка
Еще до войны у нас в столовой, в доме на канале Грибоедова, висели два портрета, писанные маслом — мой прадед Дмитрий и прабабка. Теперь мне хочется назвать ее почему-то (понятно почему) Анной. Но вообще-то я не помню, как ее звали. Но как они выглядели, эти мои предки, примерно в 40-х годах теперь уже позапрошлого столетия, я и сейчас помню отчетливо, хотя портретов не видел с детства. Прадед Дмитрий Параскева, обладавший огромной физической силой и погибший при нападении разбойников на его экипаж, когда он мужественно оказал сопротивление, убив двоих из них, — горбоносый господин в черном фраке и пышном жабо. Прабабка — с прямым пробором, гладко причесанная и с небольшими буклями, в чем-то золотисто-желтом.
Когда мы вернулись из эвакуации в Ленинград в 44-м, прадедушка куда-то исчез. Мы бродили по нашей ленинградской квартире, напоминавшей разграбленную пещеру Аладдина, и выискивали довоенные вещи.
— Мама! Вот Вовочкины книги про японскую авиацию и немецкие танки!
— Миша! Смотри, мамины очки! — Это мама обращается к папе. И плачет.
У нас, а потом уже у меня, остались бабушкины очки с немыслимым количеством диоптрий в позолоченной оправе. Вот овальный портрет прабабки, писанный маслом.
— Подождите, а где другой портрет? Ведь мы же его вчера видели! Мишка! — Это уже вопрос ко мне, десятилетнему. — Ты видел вчера портрет прадеда?
— Кажется, видел.
— А куда же он подевался? Если ты его в самом деле видел, опиши, как он выглядел на портрете.
Я подробно описываю горбоносого господина.
— Не может же он так подробно описать портрет, который видел в шесть лет!
В общем, исчез прадедушка, сбежал, как шутили родители. Конечно, могли в блокаду и сжечь, но зачем, когда были другие деревянные вещи в избытке и ими можно было топить печку-буржуйку в папином кабинете. А через несколько лет, в период острого безденежья, мои родители продали и прабабку. Словом, прадед Дмитрий «сбежал», а вскоре и прабабка пропала для меня навсегда, дав нам крохотную прибыль. Узнал бы я их теперь, если бы вдруг где-нибудь увидел? Иногда кажется, узнал бы непременно, а иногда сомневаюсь. Вот сейчас зажмурил глаза — и четко-четко увидел прабабку, ее тонкие черты лица, поворот изящной головки справа налево, аккуратный носик, платье, перетянутое «в рюмочку» у талии; вижу и «сбежавшего» прадеда: поворот горбоносой курчавой черной головы слева направо, фрак, жабо. Прощайте, греческие предки! Что у меня от вас? Что-то все-таки, наверное, есть.
А вот от бабушки Зои если и немного, то уж хотя бы чисто внешнего предостаточно. Особенно теперь, с возрастом. Моя мама к старости была вылитой бабкой. Седые негустые волосы, кривоватый, с небольшой горбинкой, крупный нос — породистое старое лицо. Бабушку Зою Дмитриевну я помню даже физическим теплом ее вязаной кофты из верблюжьей шерсти. Жила она в отдельной комнате. В квартире был длинный коридор и по правую руку комнаты, как я теперь понимаю — клети, шесть комнат-клетушек, четыре из них смежные. В двух до войны обретался я с нянькой и братьями, еще две — столовая с портретами предков и мамина спальня, в свою очередь сообщавшаяся с папиным кабинетом — самой большой комнатой в нашей квартире, где стояли тахта, бюро красного дерева, книжные полки и у окна папин рабочий письменный стол, тоже красного дерева.
Когда мы вернулись из эвакуации, бабушки Зои Дмитриевны уже не было в живых. Она умерла в блокаду. Как? Подробностей не знал никто. Очевидно, как все, кто умер от холода и голода в эти страшные месяцы ленинградской блокады. Почему она не уехала с нами в эвакуацию? Отказалась. Сказала, что хочет умереть в своей постели. Ее кровать красного дерева на ножках в виде львиных лап стояла в той самой синей комнате-клетушке, потом Боречкиной, затем моей. До войны, уже почти слепой старухой, из нее она шла в ванную, выходила к столу, аккуратная, величественная, в кофте из верблюжьей шерсти, в очках с толстыми линзами, и низким голосом делала нам обычные замечания:
— Вова! Перестань читать за столом. Это неприлично. И перестань скатывать из хлеба свои вечные шарики.
Почему-то больше всего замечаний получал ее любимый старший внук Вовка. Боре замечаний почти не помню. Меня, как самого маленького, ласкала. Как она, слепая, видела, что Вовка читает и прячет «Войну и мир» под обеденным столом и катает свои шарики, не ведаю.
Первые дни войны… Первые, еще слабые, налеты. Первые сирены воздушной тревоги. Мы все спускаемся в бомбоубежище в подвал нашего дома. Бабушка Зоя, держась за перила, преодолевая четыре с половиной этажа вниз, а потом наверх после отбоя, говорит:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу