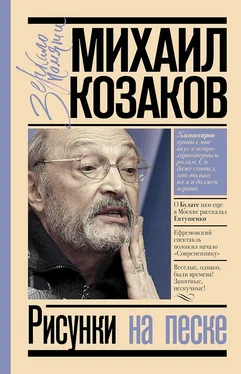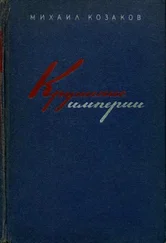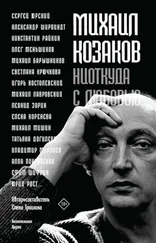— Это, Боречка, кочерга русского формализма.
И только после такой разрядки смог начать разговор со своим другом…
Старый Эйх очень переживал в те дни — и особенно болезненно — предательство своего любимца Ираклия Андроникова, который когда-то был его учеником, дневал и ночевал у него дома, где был принят как сын. Борис Михайлович, правда, всегда огорчался, когда Ираклий слишком много сил отдавал концертной деятельности. Он считал, что науку не следует делить с чем-нибудь иным. Но, огорчаясь, любил. И вот, когда шла травля компаративиста Эйхенбаума, Ираклий, его Ираклий, подписался под какой-то статьей или даже написал какую-то статью.
Судя по всему, этот разрыв переживал и Ираклий Луарсабович, который спустя какое-то время вновь появился в доме на канале Грибоедова. В тот раз он был в каком-то особенном ударе: рассказы, шутки, пародии на общих знакомых так и сыпались из него как из рога изобилия, и уж совсем он сразил нас, когда «сыграл» на губах симфонию за целый оркестр. Мы с Лизкой как зачарованные приклеились к дивану и только кричали: «Ну еще, дядя Ираклий, еще что-нибудь». Андроников был неутомим. Как потом объяснила мама, Ираклий воздействовал на деда через внучку и меня. Старик, видя наше восхищение, сам смягчился к нему…
А еще Борис Михайлович научил меня любить симфоническую музыку. В блокаду он присутствовал при первом исполнении Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича, которая транслировалась по радио из осажденного города на весь мир. Его сын Дима дружил с моим старшим братом Володей. Дима был талантливый пианист, ему пророчили блестящее будущее. Оба они не вернулись с войны. Потеря сыновей еще больше сблизила наши семьи. Теперь я понимаю, что в отношении ко мне у дяди Бори была не просто соседская доброжелательность. Он любил меня как сына, как любил своего погибшего Диму. По настоянию Бориса Михайловича родители покупали мне все шесть абонементов в филармонию. Сам Эйхенбаум слушал музыку с партитурой на коленях. Как только появились в продаже первые проигрыватели в пластмассовом футляре, он купил себе такой и начал коллекционировать долгоиграющие пластинки. Незадолго до его смерти я привез ему из Москвы диски с записями музыки Чайковского и Рахманинова. Борис Михайлович поблагодарил:
— Спасибо тебе, Миша. Но знаешь, ты их забери. Я уже Чайковского не слушаю.
— Почему, дядя Боря? Вам не нравится Чайковский?
— Не в том дело. Мне в мои годы уже трудно слушать такую музыку. Теперь я слушаю Баха, Моцарта, Гайдна…
В Большом зале филармонии я слышал Льва Оборина, Эмиля Гилельса, Генриха Нейгауза и многих других выдающихся исполнителей того времени. Оркестром руководил великий Евгений Мравинский, а обожаемый мною Курт Зандерлинг был вторым дирижером. В концертном сезоне 1945 года я впервые услышал и увидел Святослава Рихтера. Сколько ему было тогда? 28 лет. Всего 28! А слава его уже гремела, его первые серьезные успехи — еще перед самой войной, весной 41-го. И вот на сцене белоколонного нашего зала появилась длинная тонкая фигура молодого рыжеватого Рихтера. Я не помню, что именно он играл в тот вечер, я был мальчишкой-школьником, но хорошо помню ощущение какого-то подъема, охватившее меня в тот вечер. Эта необыкновенность случившегося в нашем филармоническом зале в далеком 45-м году, повторялась со мной всегда на протяжении полувека, когда мне приходилось слушать этого гениального пианиста…
Питер — город-сноб. Никогда мне не забыть тогдашнюю публику нашей филармонии. «Постоянный слушатель» — почетный титул. В фойе — ощущение праздника, весьма торжественно и церемонно. Мелькают седые головы, блестят пенсне. Дамы в вечерних туалетах. Не все, конечно, но в основном. Но уж точно не в спортивной одежде и не в каждодневном. В гардеробе меняют обувь, дамы надевают туфли на каблуках, мужчины оставляют галоши. Все при галстуках. В директорской ложе — первая красавица Петербурга (хотя именно тогда город именовался Ленинградом), но она, эта женщина в черном панбархатном платье с белоснежными руками и чуть обнаженной спиной — уж точно петербурженка. Кто она? Актриса, жена директора филармонии. Перед началом — на нее все взоры морских офицеров, тоже сидящих в партере. И мой, мальчишеский, влюбленный…
У многих на коленях партитуры произведений, которые будут сегодня исполнены. У других — нет. Почему? Эти знают наизусть, зачем им? И все это великолепие в послеблокадном, полумертвом, еще только начинающем оправляться после бомбежек городе. Еще не отменена карточная система и весь этот бомонд живет практически впроголодь… Но Питер есть Питер. Постоянный слушатель — чин. Музыка — молитва. Мравинский — бог. Зандерлинг — полубог.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу