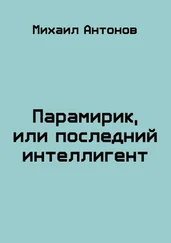В конце той войны, незадолго до наступления Нового, 1917 года, Ленин, находясь в эмиграции, мечтал о социалистической революции в России, но, обращаясь к своим товарищам по партии, добавлял: к сожалению, нашему поколению увидеть её не придётся, до этого события должны пройти десятилетия. И вдруг в феврале приходит мировая новость номер один: в России революция! Сначала, естественно, буржуазная, а уже меньше чем через год – и социалистическая!
Если уж такие гении не могли предвидеть, как изменится мир, то было бы смешно требовать этого от Энгельгардта. Поэтому я и не хочу ставить вопрос глобально, а коснусь лишь частностей, относящихся к российскому селу.
В том, что самодержавно-помещичий строй в России обречён и падёт, скорее всего – в результате революции, причём вероятнее всего – социалистической, Энгельгардт был убеждён, об этом в Батишеве порой велись жаркие дискуссии, особенно, когда приезжали в гости его сыновья (и, естественно, когда не было посторонних глаз и ушей). О нежизнеспособности строя Энгельгардт в подцензурном журнале писать мог, а о его неизбежном падении, тем более – в результате революции – не мог. Но социалистическую революцию он, скорее всего, понимал в народническом толковании. Но того, что социалистический строй падёт и сменится всеобщим торжеством кулачества, представить себе был не в состоянии.
То, что частник ради своей прибыли (пусть и копеечной) будет пренебрегать интересами государства и народа, Энгельгардт хорошо знал. Но даже он не мог представить себе, что новая власть, установившаяся в России в 1991 году, пойдёт на такой невиданный на планете в мирное время погром сельского хозяйства своей собственной страны. В здравом ли рассудке могла она допустить уничтожение 75–80 % парка тракторов и комбайнов, которые были распилены на металлолом и проданы (в основном за границу)? В своём ли уме были люди, которые 85 % добываемых в стране минеральных удобрений отправляют за рубеж, оставляя собственные поля на нищенском пайке? Неужели нас ничему не научил дореволюционный опыт, выражающийся формулой «Недоедим – а вывезем!», и мы, производя 84,5 (вместо нужных 150) миллионов тонн зерна, ухитряемся отправлять его на экспорт до 20 миллионов тонн (за счёт уничтожения животноводства, на корм которого шла треть урожая зерна)? Как можно было допустить уменьшение площади пашни на 40 миллионов гектаров (это же равно посевным площадям не маленькой европейской страны), а поголовья коров в 2,5 раза – как раз до времён Энгельгардта, в конец XIX века?
Известно утверждение Гайдара: «Сельское хозяйства России – это чёрная дыра! Сколько в него ни вкладывай средств, всё проваливается безвозвратно. Нам выгоднее закупать продукты за рубежом, чем производить их у себя!» То есть, именно оно было положено в основу аграрной политики (сдвиги к лучшему пока мало заметны). Это дало Сергею Кара-Мурзе основание сделать общий вывод: «на той же земле, с той же технологией и с теми же людьми попытка заменить советские производственные отношения капиталистическими привела к спаду производства в два раза с глубокой деградацией хозяйства».
Значит, разруха в сфере сельского хозяйства, как и во времена Энгельгардта, случилась не сама собой, а стала следствием целенаправленной политики власти. Только тогда такая политика проводилась ради сохранения отжившего помещичьего строя, а в «лихие 1990-е – ради утверждения паразитического буржуазного строя и недопущения возврата к социализму.Вот почему у тех, кто знает книгу Энгельгардта и ныне читает о положении сельского хозяйства России, например, статью Альберта Сёмина «Зерновой клин» [17] «Литературная газета» № 6, 2015
, может возникнуть мысль: очень уж много сходного. Придётся задуматься и над таким вопросом: ну, а если вслед за санкциями со стороны Запада против России он ещё и развяжет войну или добьётся установления блокады нашей страны, чем наш народ будет питаться? Значит, книга эта актуальна и в наши дни. Если бы Энгельгардт дожил до наших дней и знал бы о судьбе своего сына, внуков, внучек и правнучки, умерших от голода в 1942 году в блокадном Ленинграде, он рассказал бы нам, как важно для страны обеспечить свою продовольственную безопасность. Без многих вещей человек может обойтись, но еда – необходимейшее условие жизни.
Возможно, после стольких лет хаоса Энгельгардт смирился бы с возрождением чиновничьей пирамиды, но его поразила бы полная некомпетентность новых управленцев (пришедших на смену «красным директорам») и ведущих чиновников, как и то, что власть смирилась с ростом дороговизны в стране. Вот пример.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
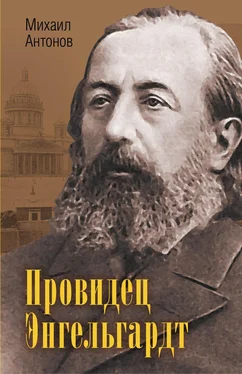
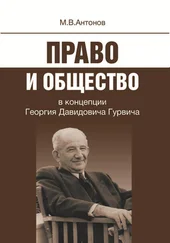




![Михаил Антонов - Выpубок [СИ]](/books/391799/mihail-antonov-vypubok-si-thumb.webp)
![Михаил Антонов - Новые данные трансцендентального шпионажа за планетой Янтарный Гугон [СИ]](/books/391800/mihail-antonov-novye-dannye-transcendentalnogo-shp-thumb.webp)
![Михаил Антонов - Жизнь в Советском Союзе была... [СИ]](/books/408477/mihail-antonov-zhizn-v-sovetskom-soyuze-byla-si-thumb.webp)
![Михаил Антонов - Счастливые времена [СИ]](/books/408478/mihail-antonov-schastlivye-vremena-si-thumb.webp)