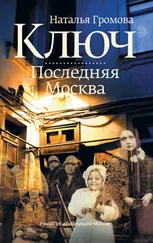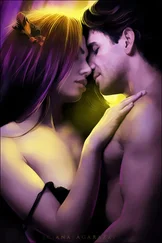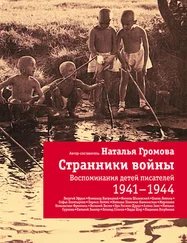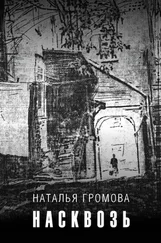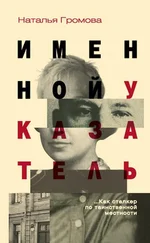Как будто ее кварталы, улицы, тупики, Поварские, Ордынки, Пречистенки, Козихинские переулки и все эти Собачьи Площадки породили бесчисленное множество направлений, течений, групп, и группировочек, и кружочков, от которых эти поэты выступают…
И несколькими абзацами ниже:
Традиций в Москве не ищите… Но неожиданно атавистически может возникнуть в ней идейный изгиб, соединяющий тайными нитями новое с дальним, прошедшим [13] Рукопись предисловия к антологии московских поэтов. Цит. по: П. Н. Зайцев. Воспоминания / Сост. М. Л. Спивак; вступ. ст. Дж. Малмстада, М. Л. Спивак. М., 2008. С. 17, 18.
.
«Кажется, совсем забыта теперь Софья Яковлевна Парнок, – вспоминал А. Чичерин, известный филолог, а тогда один из членов артели, – тонкая, вдохновенная поэтесса со строгим обликом, всегда напоминавшая мне Гёте. Тихим голосом, со склоненною головою, отчетливо выделяя мелодию, читала она свои стихи:
И ныряют уточки в голубой воде,
А на тихом озере – тихо, как нигде» [14] Чичерин А. Давние годы . М., 1985. С. 267.
.
Софья Яковлевна Парнок относилась к «Узлу» очень серьезно и прагматично; два с лишним года она вела дела издательства. Собрания часто проходили у нее в комнате, в доме в 1‑м Неопалимовском переулке, где она жила со своей подругой математиком Ольгой Николаевной Цубербиллер. «Мой утешный, мой последний, / Мой благословенный друг», – так Софья Яковлевна называла ее в стихах. Через несколько лет именно Ольга Николаевна и похоронила поэтессу на Введенском кладбище.
Первый Неопалимовский переулок находится недалеко от арбатского Староконюшенного переулка, надо только пересечь Садовое кольцо. По воспоминаниям дружившего с ней в эти годы Льва Горнунга, Парнок жила в красном кирпичном доме на четвертом этаже. Из окна открывался «зимний пейзаж – снежные крыши и купол Неопалимой Купины» [15] Парнок С. Статьи. Письма. Стихи // De visu. 1993. № С. 24.
, – писала сама С. Парнок.
Коленями – в жесткий подоконник,
И в форточку – раскрытый рыбий рот!
Вздохнуть… вздохнуть…
Так тянет кислород,
Из серого мешка, еще живой покойник…
Светает. В сумраки оголены
И так задумчивы дома. И скупо
Над крышами поблескивает купол
И крест Неопалимой Купины…
Эти годы ее тяжко мучила базедова болезнь. Она недавно вернулась из Крыма, где в Судаке у сестер Е. и А. Герцык спасалась то от красных, то от белых. Ее стихи этого времени говорят о готовности к смерти, но при этом она очень деятельна. Вот картинка одного из заседаний «Узла» в ее стихотворении, посвященном Вере Звягинцевой:
Папироса за папиросой.
Заседаем, решаем, судим.
Целый вечер рыжеволосая,
Вся в дыму я мерещусь людям.
Восемь открыток и писем, сохранившихся в архиве Луговского, свидетельствуют о постоянных, упорных попытках Софьи Яковлевны выстроить издательство. Только однажды она напишет, что устала, что у нее больше нет сил бороться.
Она всегда была верна дружбе. Несмотря на свое предрасположение к женщинам, по отношению к друзьям-мужчинам сохраняла верность и преданность. После голодных крымских лет в Судаке в Москве делала все возможное, чтобы помочь другу – М. Волошину, которого в то время почти не печатали. Заочно включила его в члены артели. Пыталась выпустить его сборник, который никак не мог пройти цензуру; он должен был называться «Семь поэм».
Девятого февраля 1927 года Парнок пишет Луговскому: «Ходят слухи, что Волошин приезжает 9‑го, т. е. сегодня. Надо устроить, чтобы он читал в «Узле» в будущую среду. Он остановится у Шервинского…» [16] Громова Н. Хроника поэтического издательства «Узел». С. 60–61.
А Луговской помечает в своем ежедневнике: «8 марта, вторник – Волошинский вечер. 9 марта, среда – доклад Шервинского».
Когда умерла ее любимая подруга А. Герцык, Парнок хотела поместить в альманахе «Узла» некролог и подборку ее стихов, но не смогла этого сделать: устав запрещал публиковать стихи не членов артели. А кроме того, стихи ушедшей поэтессы не прошли бы цензуру, в них слишком часто звучало слово «Бог».
В «Узле» Софья Парнок подружилась с Софьей Федорченко, детской поэтессой, автором документального эпоса «Народ на войне», который беззастенчиво использовали многие, писавшие о Гражданской войне, в том числе и Алексей Толстой.
Главные неприятности артели были связаны с цензурой: не допущен к печати сборник М. Кузмина, сокращена в два раза книга Б. Лившица, рассыпают набор сборника «Вереск» Е. Васильевой (Черубины де Габриак) – в 1926 году была запрещена деятельность антропософского кружка, куда она входила, а затем последовала ссылка в Ташкент и скорая смерть – в 1928‑м.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
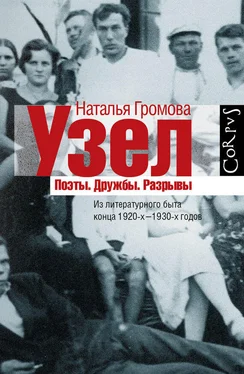
![Наталья Громова - Пилигрим [сборник]](/books/27942/natalya-gromova-piligrim-sbornik-thumb.webp)