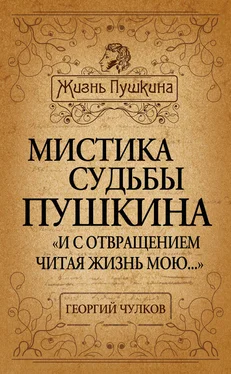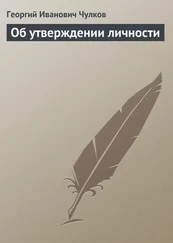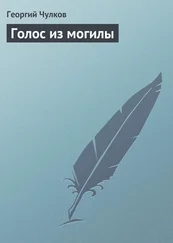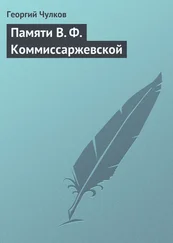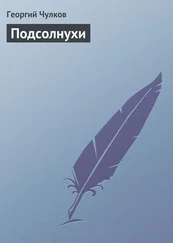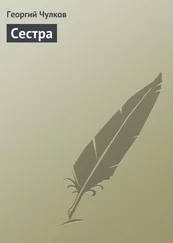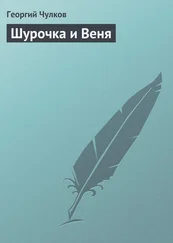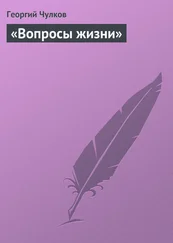Однако Энгельгардт усердно приглашал на свои вечера порочного и строптивого поэта, но Пушкин перестал посещать дом директора. Однажды во время рекреаций Энгельгардт подошел к Пушкину, когда тот сидел за своим пультом, и стал его мягко упрекать за его холодность. Почему Пушкин не бывает на семейных вечерах его, Энгельгардта? Почему Пушкин его не любит? Пусть он скажет откровенно причину своей вражды. Пушкин хмурил брови. Но в конце концов он был растроган. Со слезами на глазах он признался Энгельгардту, что был не прав. Директор, утешенный его раскаянием, заключил упрямого поэта в свои объятия. Они расстались, довольные друг другом. Минут через десять Егор Антонович вернулся к Пушкину, желая что-то сказать, но лишь только Энгельгардт вошел, Пушкин поспешно спрятал какую-то бумагу, заметно смутившись. «От друга таиться не следует», – сказал добродетельный Егор Антонович, поднимая доску пульта и доставая бумагу. Там была карикатура на него и под ней злая эпиграмма. «Теперь понимаю, почему вы не желаете бывать у меня в доме», – сказал он спокойно, возвращая поэту его бумагу.
И, тем не менее, Е. А. Энгельгардт не раз пользовался своею властью, чтобы выручать Пушкина из беды. Очевидно, у этого человека были твердые принципы, и он был свободен от пристрастий и антипатий. Так было и тогда, когда случился смешной скандал в коридоре, соединявшем лицей с дворцом. Героем скандала был Пушкин. Неосторожный поэт в полумраке коридора по ошибке обнял однажды фрейлину Волконскую, [123] Волконская Варвара Михайловна (1781–1865) – камер-фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, сестра П. М. Волконского.
приняв старую девицу за ее хорошенькую горничную Наташу. Фрейлина пожаловалась брату П. М. Волконскому, [124] Волконский Петр Михайлович (1776–1852) – светлейший князь, генерал-адъютант, начальник Главного штаба, министр двора. С 1850 г. – фельдмаршал.
а тот государю. Александр Павлович на другой день, увидев Энгельгардта, сказал ему: «Твои лицеисты не дают прохода фрейлинам моей жены. Что же это будет?..» Энгельгардт объяснил, как было дело, и просил простить Пушкина. Царь смягчился. «Старуха, быть может, была в восторге от ошибки молодого человека», – сказал он, легкомысленно улыбаясь.
И. И. Пущин убеждал Пушкина, что Энгельгардт поступил прекрасно, выручив Пушкина, но тот «никак не сознавал этого», уверяя приятеля, что Энгельгардт, в сущности, защищал столько же Пушкина, сколько и самого себя. «Много мы спорили, – рассказывает об этом случае И. И. Пущин. – Для меня оставалось неразрешенной загадкой, почему все внимания директора и жены его отвергались Пушкиным: он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душою полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать…»
В добродетельном и благополучном доме Егора Антоновича Энгельгардта Пушкину было скучно; литературные журфиксы в семье барона Теппера де Фергюссона тоже были не очень забавны; не веселее было и в семействе Вельо [125] Вельо (Велио) Иосиф (1755–1802) – барон, придворный банкир, родом португалец. Его сын, генерал, впоследствии стал комендантом Царского Села.
или в квартирке добродушного Чирикова; куда интереснее было бывать в доме у Карамзиных, где было чему поучиться и всегда можно было встретить писателей и поэтов… Но и здесь, когда Николаю Михайловичу вздумается заговорить о русской государственности, становится тошно и хочется бежать куда угодно, только бы не видеть этого изящного старика и не слышать его речей во славу самодержавной монархии.
Тогда Пушкин, сговорившись с лицейскими аргусами, [126] Аргус – в греко-римской мифологии стоглазый великан, приставленный богинею Герою (Юноною) в качестве стража к ее сопернице Ио, обращенной в корову. В переносном значении – бдительный страж.
уходил на всю ночь в Софию, [127] София – часть Царского Села, где были расположены гвардейские полки. В 1808 г. присоединена к Сарскому селу (при Петре I – Сарская мыза – от финского слова Сариймойс – верхняя мыза), которое было переименовано в Царское Село.
в казармы, к гусарам. Там его встречали с распростертыми объятиями. Там не было постных физиономий и можно было острить и шутить, соперничая с самим Вольтером.
Здесь не смотрели на Пушкина, как на школьника. С ним считались как с поэтом, остряком и вольнодумцем. Царскосельские гусары были, конечно, лихими повесами, и казарменный быт, хмельной и беспутный, был сомнительной опорой для нравственности, но Пушкин предался ему с увлечением.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу