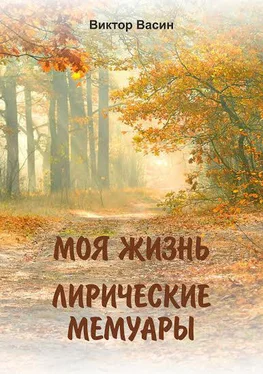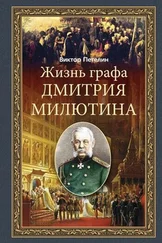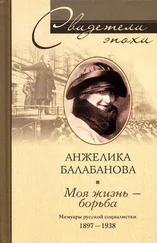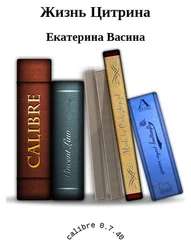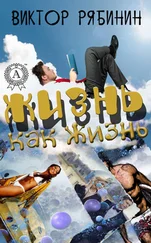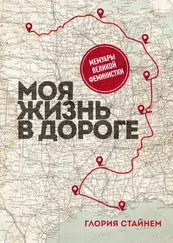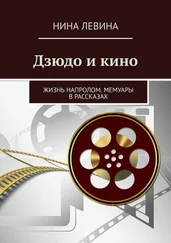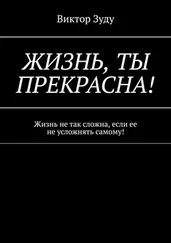Мне, родившемуся в первой половине прошлого столетия, в семье, где у всех её членов были титулы: «из рабочих», либо: «из крестьян», – мне, получившему (к годам дожития) необходимый минимум житейских благ, грех сетовать на своё «неродовитое» происхождение. Как-никак, в те времена подобные «титулы» были в официальном почёте: страна всё ещё исповедовала «высший принцип», и именовалась диктатурой! – диктатурой классов, в сословную графу которых были вписаны именно эти «титулы».
Всё вышеизложенное позволило и мне, выходцу из такой же «серой», классово-почитаемой среды, обрести интеллектуальную профессию, и влиться в ряды «прослойки», именуемой (по наущению свыше) – Советской народной интеллигенцией.
Верховная власть той поры хоть и опиралась на пролетарскую массу, но при всей своей ортодоксальности, и приверженности постулатам марксизма, – всё же заглядывала (в стратегических задумках) чуть далее сует текущего момента.
Дело в том, что костяк, этой, присягнувшей на верность, пролетарской массы, был дремуч; и власть понимала, что одной лишь преданности идеям социализма, и готовности – умереть на баррикадах, мало для осуществления задуманного.
От масс, в эпоху индустриализации, требовались (по нужной, и довольно высокой планке) – грамотность и творческий профессионализм, чего, преданные делу революции массы, предложить не могли. Но вслух об этой ахиллесовой беде победившего пролетариата (тем паче – с высоких трибун), – «руководящая и направляющая» предпочитала не распространяться. Партийный такт блюлся, порой неуклюже и без должного чувства меры, – но блюлся неукоснительно. Особенно в таком щекотливом вопросе.
Социализм, с его технологичным базисом и умной надстройкой (таким он определялся властью в далёкой перспективе), ещё предстояло построить, а чтобы построить сие экономическое чудо, нужны были хорошие головы и умелые руки.
Власть, хоть и пестовала (по нисходящей) «классово зрелые» слои социума, но, проявляя полит-прозорливость, присматривалась и к более молодой поросли, – к сыновьям и дочерям стареющего пролетариата, предоставляя им – выходцам из рабоче-крестьянских семей, многочисленные образовательные привилегии. Дабы обеспечить низовой поросли (едва освоившей ликбез) конкурсный гандикап, власть намеренно опускала шлагбаум запрета… перед той порослью, чья социальная принадлежность вызывала у неё оскомину и классовую неприязнь. Особое содействие (и в этом тоже был резон) оказывалось членам новоиспечённого Союза молодёжи, и подклассу «сочувствующих». И, надо признать, подобная практика дала ожидаемые результаты: среда вчерашних «ликбезников», получившая (по отмашке свыше) доступ к широкому (на тот период) образованию, выдала-таки на-гора когорту грандов, чей след в отечественной (советской) истории – заметен и по сегодня.
Утверждать, что приглашая в храмы наук вчерашних малограмотных, но классово близких «высшему принципу» юнцов, власть надеялась получить… новых Ломоносовых и Менделеевых – было бы наивно; но что именно в те времена (у оставшегося без элиты государства) появились – и нужные инженеры, и нужные управленцы, и нужные гуманитарии – факт (при всех недомолвках) более чем неоспоримый.
Пришли таланты, не очень крупные, но надёжные и прагматичные. Что до Ломоносовых, – корифеи, а тем паче – уникумы, приходят (на мой взгляд) в наш мир вовсе не по зову попавших впросак властей, а лишь по зову самой жизни, – жизни, угодившей в нравственный, демографический, либо в ресурсный тупик.
Такой жизни (как, впрочем, и формации, испохабившей её), дабы не кануть в Лету, безусловно, и всегда спешно, требуются корреляторы; и они приходят – уникумы, корифеи, реформаторы.
Любая власть, даже если она до мозга костей – власть низов, в своих экономических начинаниях предпочитает иметь дело с крепким, хорошо образованным середняком: учителем, эскулапом, вездесущим (но думающим!) бюрократом, и кормильцем всего и вся – хитроумным крестьянином.
Худо-бедно, но управлять страной, держа массы на коротком поводке – можно. Можно, через кнут и волюнтаризм – править, полагая, что местечковая номенклатура в точности исполнит указующие директивы, и коммунизм, в ипостаси его первой фазы, будет построен. Но вот беда: образовательный ценз руководящей братии на местах – в те годы никогда не простирался далее партийных, комсомольских, либо профсоюзных курсов.
А с таким скарбом – да в калачный ряд?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу