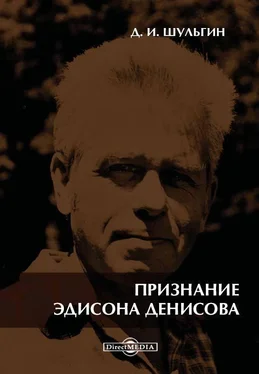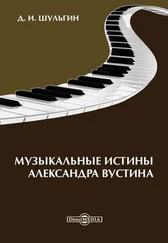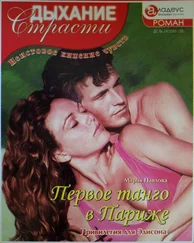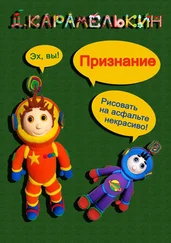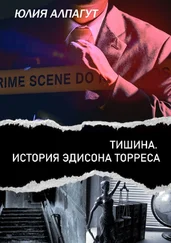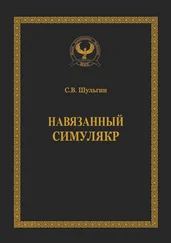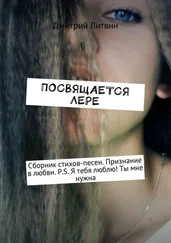А вот что касается появления названия, так я вам скажу, что иной раз название это я ищу намного дольше, чем, например, пишу все сочинение.
Название – это очень важно, по-моему, и важно, в первую очередь, для понимания сочинения, для настройки на это понимание, если хотите. Вот, скажем, та же «Жизнь в красном цвете» на стихи Виана: после того как я написал этот цикл, название к нему я искал очень долго. И взялось оно, как я уже сказал вам, опять же из стихотворения, которое в мое сочинение не вошло. Просто мне показалось, что эти слова лучше всего подходят к содержанию сразу всего цикла… Но пришло оно далеко не сразу.
– Эдисон Васильевич! Кто из ваших однокурсников казался вам наиболее интересным в смысле общения, профессионализма, общей культуры?
– Меня всегда интересовал Андрей Волконский. Это был в то время наиболее серьезный из начинающих композиторов. Он, правда, не окончил консерваторию.
– А почему?
– Ему абсолютно не нравились обязательные предметы. Попросту говоря, он считал до известной степени не только их бесполезными для композитора, но и даже вредными. Поэтому он и ушел из консерватории с четвертого курса, так и не получив диплома. А над своим педагогом – Шапориным – он вообще постоянно подсмеивался и, например, однажды даже написал довольно ядовитое «Трио памяти декабристов», то есть с явной пародией на «Декабристов» Шапорина…
Что касается Альфреда, то мы с ним в консерватории, практически, не общались. Наши контакты начались позднее.
– А почему так?
– Наверное, потому, что и он, и тот же Караманов были на один или два года моложе меня по курсу, да и по годам мы тогда не очень подходили друг другу. Так что они меня как-то и не интересовали в то время. Альфред писал вообще такую же академическую музыку, как и я. Были у него сочинения под Прокофьева и так далее. Ну, об этом он вам и сам все рассказал. Одно могу добавить, что все, что он делал, – это было профессионально, хорошо, но, я думаю, и столь же неинтересно, как и сочинения того же Николаева, скажем, и Пирумова. Единственно, кто выделялся среди них, это были, прежде всего, Караманов и Волконский. Но знакомы они, по-моему, между собой не были. Караманов – удивительная была личность. Очень талантливый человек. Но вот чего в нем никогда не было и сейчас нет, так это никакой интеллигентности абсолютно. Однако мышление и музыкальность, да и весь он по природе своей – были всегда не стандартные какие-то, – здесь Альфред, конечно, прав. Сейчас вот некоторые из его сочинений уже умерли естественной смертью, и навсегда. И, все-таки, следы вот какой-то такой необычайной талантливости, которая проявилась именно в годы обучения в консерватории у него, они, безусловно, остались во многих его сочинениях. Скажем, в таких, как «Пролог, мысль и эпилог» для фортепиано, как «Музыка для виолончели и фортепиано № 1», как струнный квартет – то есть, вообще, во всем, что он написал до своих Прелюдий и фуг. Это были очень интересные сочинения. Но потом… исчезли и его поиски, и его очень оригинальный, самобытный, я бы сказал, талант, – то есть это стала уже совершенно стандартная соцреалистическая музыка, из которой он так и не выходил.
И это происходит со многими композиторами. Скажем, вот с тем же Мосоловым, который начал так блестяще. И ранние сочинения его, они по уровню и талантливости, и по яркости превосходят все, что делал в те годы Прокофьев. Но потом он как-то сломался, скис. И если вы возьмете его сочинения второй половины тридцатых годов, сороковых, пятидесятых даже – это все сочинения, слушая которые ни за что не поверишь, что они написаны той же рукой, которой написаны, скажем, его Первый и неоконченный Второй фортепианные концерты или два струнных квартета и четыре фортепианные сонаты, и «Газетные объявления», и «Детские сценки», и многие другие замечательные произведения, созданные Мосоловым примерно до тридцать третьего года. Вот нечто подобное произошло, очевидно, и с Карамановым. Как композитор он кончился, к сожалению, очень и очень быстро. Однако и он, и Волконский для меня всегда в те годы казались наиболее крупными, загадочными и перспективными фигурами, хотя и совершенно противоположными друг другу.
А Альфред и Соня Губайдулина – они, как и я, говоря откровенно, только учились писать тогда и писали все грамотно, академично. Все было у нас приглажено. У каждого свои и явные кумиры. У меня – Шостакович, у Шнитке – Прокофьев, у Сонечки – тоже больше всего Прокофьев. Ну, а со временем все получилось не так уж и плохо для каждого из нас. Каждый нашел свой путь и постепенно стал самим собой. Естественно, что если композитор, и тем более еще неокрепший, не имеющий своего стиля, слышит что его ровесник делает что-то очень интересное и нестандартное, то у него сразу же возникает интерес к однокурснику. И не только как к музыканту, но и как к человеку. Это вполне нормально. И естественно, что у таких людей, которые стараются жить не по волчьим законам, всегда возникает потребность общаться друг с другом, встречаться, и, конечно, и спорить, и даже ссориться. Ну, и что же в этом плохого? Ничего! Это абсолютно нормально и даже хорошо. Поэтому и родилась, наверное, наша дружба, наша «могучая кучка», если хотите аналогий. И мы дружили очень долго – и Соня Губайдулина, и Альфред Шнитке, и Валя Сильвестров, и Сережа Слонимский, и Тигран Мансурян. Потом, конечно, жизнь нас разметала. Многие изменились. Те же Тигран и Сережа Слонимский, например, перестали писать современную музыку, повернулись к академизму, традиционализму, стали сочинять, как правило, уравновешенную стандартную тональную музыку. Андрей Волконский, который всегда был для меня любимым и уважаемым другом и всегда меня интересовал, сейчас, насколько я знаю, живет во Франции, в Провансе…
Читать дальше