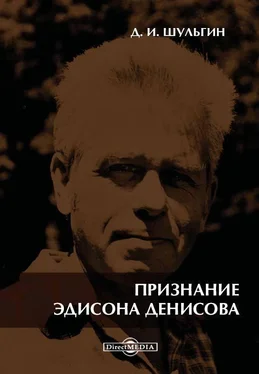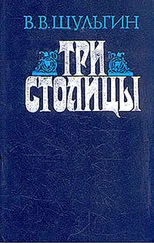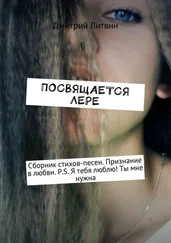– Я это почувствовал при работе почти со всеми вашими сочинениями. Хотя бы с тем же Реквиемом и…
– Конечно. Здесь можно говорить о связях с французами и, конечно, прежде всего, в области красок. Это, наверное, произошло потому, что краска в драматургии того же Реквиема играет очень большую и смысловую, и экспрессивную роль. Я где-то, но не в интервью, и не в книгах, а в обычном общении, уже говорил, что только два композитора, по моему мнению, по-настоящему чувствовали важность и роль краски в музыке и то, что она может нести большую музыкальную информацию. Это, вопервых, Мусоргский, а за ним и Дебюсси. В этом отношении они смотрели гораздо дальше, чем их современники.
– Когда вы говорите о влиянии на вас того или иного композитора, вы имеете в виду что-то конкретное в смысле языка, драматургических концепций, или речь идет о каком-то более общем воздействии на ваше собственное «я», на психологию вашего музыкального мышления?
– И то, и другое… и то, и другое.
В одном композиторе – одно, в другом композиторе – другое. Например, в Бартоке – это то, что и сейчас очень восхищает меня: поразительная сила мышления музыкального, и такая совершенно потрясающая логика организации музыки во всех ее и даже самых мельчайших компонентах. Ведь каждая же микродеталь обдумана и прослушана, связана буквально со всем у него. Ничто не падает с неба, ничего нет случайного. То же самое я слышу у Бетховена. Все красиво. Все логично. Поразительная логика.
– А у Брамса?
– Безусловно!
– А в фольклоре?
– Ну, а здесь по-другому и быть не может. Я бы сказал, что для меня всегда это был и есть неиссякающий источник и красоты, и мудрости. Я люблю народную музыку, и, причем, не только русскую. У меня очень большая антология фольклора, и в том числе испанского – три тома, огромная антология арабской музыки, есть японская, корейская и отдельных африканских стран.
– И у вас, кажется, довольно много записей на полках?
– Полным полно. Меня все это страшно интересует. И это не простое любопытство: я многое для себя узнаю и открываю там.
– Вам приходилось участвовать в фольклорных поездках?
– А как же? Три года ездил с магнитофоном. Правда, первый год меня просто заставили это сделать как студента консерватории, поскольку это было обязательным в нашем обучении. Но затем уже я и сам напрашивался – очень было интересно.
Я и сейчас постоянно хожу на все концерты фольклорных ансамблей. Особенно на концерты настоящих деревенских музыкантов.
И в этом отношении, кстати, я опять хочу вернуться к Бартоку в нашем разговоре. Вы посмотрите! Ведь у него, практически, почти нет фольклорных цитат. А ведь, казалось бы, кому, как не Бартоку, который собрал десятки тысяч народных песен и танцев, только бы и цитировать, только бы и спекулировать на фольклоре. Так нет же! А в то же время, вся его музыка – музыка, конечно, венгра. Она настолько народная в самом высоком смысле слова, насколько только может мечтать любой композитор – удивительный синтез профессионального, национального, народного. Для меня это образец того, как можно писать хорошую музыку и вполне современным языком.
– У него удивительное всегда решение тональности. Например, в тех же Третьем и Четвертом квартетах, о которых вы говорили: ее здесь нет, конечно, в традиционном понимании, но при этом у вас постоянно возникает ощущение именно тональной связанности, причем в материале, безусловно, связанном с фольклорными традициями.
– А, по-моему, Дима, эта музыка напрочь лишена всякой тональности. Но, тем не менее, как вы верно сказали, она совершенно народная и очень органичная.
Барток, как только начинал писать тональную музыку, то сразу становился плохим композитором.
– А что для вас означает понятие «тональность»?
– Тональная музыка для меня – фактически это то, что существовало до ХХ века, и конец ХIX века – ее кульминация… Это музыка функциональная. Вот, скажем, если вы возьмете мой Реквием. Там нет ни единого такта тональной музыки. Однако там есть, конечно, места, где возможны и какие-то ассоциации с тональной музыкой. Но они не более чем аллюзия. Почему? Отвечу: а потому что там, скажем, есть, например, два трезвучия, в особенности ре-мажорное, которое появляется в самых важных местах Реквиема. Первый раз – это вступление органа в первой части 8 8 «Рождение улыбки».
, когда там хор на разных языках повторяет слово «свет». Для меня этот ре-мажорный аккорд возник сам по себе – я его не выдумал – он пришел сам и стал для меня как символ света. Я вспомнил сейчас, что именно об этом сказал мне и Роман Семенович Леденев сразу же после премьеры. А он ведь не только очень большой музыкант, но и к тому же человек, умеющий удивительно точно охарактеризовать то или иное явление в музыке. И он, конечно, прав. И все эти элементы тональные – они у меня встречаются, и иногда очень часто. Но здесь у них нет прежнего, совсем никакого, функционального характера…
Читать дальше