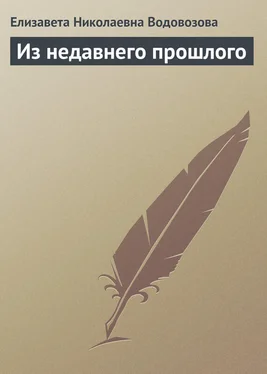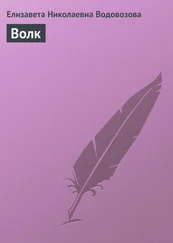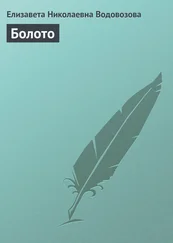– Мамочка, успокойся! Мамочка, выпей воды! Мамочка, мне необходимо переговорить с Елизаветой Николаевной… Ты должна благодарить ее, что она к нам заехала. Иначе я сама поехала бы к ней сегодня же, – ведь тогда бы ты еще больше перетрусила…
Но Александра Аркадьевна, отталкивая свою дочь, продолжала выкрикивать на разные лады те же бессвязные фразы, а ее супруг по-прежнему нервно бегал по комнате, то потирая руки, то хватаясь за голову. Но вот в выкриках его супруги послышались хриплые ноты. Дочь поднесла ей стакан воды. Я воспользовалась перерывом и громко сказала:
– Видно, что вы всю свою жизнь прожили среди людей, которые арестовывали других… Напрасно вы начали Путаться среди тех, которых арестуют! Вот потому-то по отношению к ним вы и теряете самое элементарное приличие и самообладание.
Александра Аркадьевна вдруг смолкла. Выпитая ли вода вернула ей сознание, стыд ли за свою невоздержанность внезапно вспыхнул в ней, или все это вместе, только она замолчала, а слезы градом катились по ее щекам. Ее дочь, осыпая ее поцелуями и поглаживая по голове, приговаривала: «Вот, вот и хорошо! Пойдем, я тебя уложу, тебе надо отдохнуть!» – и, обняв мать за талию, повела ее в спальню. В ту же минуту маэстро быстро выбежал из комнаты. Лида скоро вернулась, но я уже одевалась в передней. Она умоляла меня зайти в ее комнату, говоря, что это для нее крайне необходимо.
Лидия Карловна была чудеснейшею и умною девушкою. Прекрасно понимая все недостатки матери, умея находить их и тогда, когда они были прикрыты ее светскою и остроумною болтовнёю, с антипатиею относясь ко множеству знакомых светского круга ее родителей, она всем сердцем разделяла стремления тогдашней молодежи, постоянно умственно шла вперед, но продолжала страстно любить свою мать, которая, в свою очередь, платила ей горячею материнскою привязанностью. Но ни новые люди, которыми все более окружала себя Александра Аркадьевна, ни новые взгляды, ни ее горячая любовь к дочери не изменили вполне ее миросозерцания, сложившегося под влияниями, совершенно противоположными убеждениям ее новых посетителей. Хотя многие взгляды, усвоенные ею чуть не накануне, она смело пускала в ход, точно всегда придерживалась их, но многое, что сильно колебало прежние ее понятия светской женщины, укладывалось в ней совершенно поверхностно: она то и дело язвительно высмеивала хорошее, симпатичное и достойное уважения. Добиваясь знакомства с каждым более или менее известным лицом, она умела умно и мило поговорить с ним и, как казалось, даже выказать сердечное расположение; от нее почти все уходили, очарованные ею. Но никто лучше ее не умел так превосходно, можно даже сказать художественно, выдвинуть слабые и смешные стороны своего посетителя, его некрасивые манеры, его невзрачный вид, смешно сидевший на нем туалет. Ее высмеивания касались преимущественно внешней стороны человека, но делались они с таким юмором и неподражаемым мастерством, что являлись выпуклыми и рельефными и заслоняли собою благородные стороны ума и сердца высмеиваемой личности. Когда подобные разговоры происходили при ее дочери, та говорила: «Опять эти зловещие светские звуки!» – или что-нибудь в этом роде, и произносила это либо с грустью, либо с досадою, смотря по тому, кого и что высмеивала ее мать. Лидия Карловна рано составила себе правильное понятие о том, над чем можно смеяться и чего не дозволяет нравственное чувство интеллигентного человека. Мать была несравненно одареннее дочери, но многие, присутствуя при том, как она беспощадно критиковала то того, то другого, только что вышедшего за порог ее двери, не принимали в расчет неблагоприятных сторон ее воспитания и прежней жизни, считали ее двуличною и фальшивою. Напротив, к ее дочери все, кто близко знавал ее, относились с полным доверием и благожелательностью.
Когда я очутилась наедине с Лидиею Карловною, я спросила ее о том, какие рукописи и письма она в последнее время пересылала моему сыну, чтобы сообразить, что из них могло быть захвачено при обыске, затем дала ей множество указаний, как ей следует действовать. Я встала уже, чтобы уходить, когда Лидия Карловна опять заговорила: «Мне бы так хотелось объяснить вам причины дикой сцены, которую мама закатила вам», – и она рассказала мне, что утром в этот день один из ее знакомых известил ее оо обыске у нас. Это заставило ее немедленно заявить родителям, что то же самое грозит и ей, что она, наверно, будет скоро арестована. Хотя они сперва не поверили в возможность этого, но это так их ошеломило, что они послали с нарочным записку старинному другу семьи (который знал Лиду с ее рождения и был с нею на «ты»), чтобы он немедленно посетил их по очень важному делу. Выслушав все, что Лида при родителях сообщила ему о своем участии в этом злополучном деле, их приятель сказал, что за перевод нелегального сочинения и издание его в ничтожном количестве, не получившего еще распространения, по его мнению, переводчики понесли бы небольшую кару, вроде того, что их отдали бы на известное время под негласный надзор полиции. А вот тем, кто писал примечания и снабдил перевод Туна приложениями, а судя по заглавию книги можно себе представить, какого характера они должны быть, раз их составляли радикальные студенты, им уже не только никогда не видать университета, но их ждет судьба, пожалуй, и похуже. Этот друг Давыдовых очень советовал им сильно попридерживать теперь Лиду от посещения и приглашения к себе подобных молодых людей, иначе, говорил он, ей не уцелеть. Он, то есть приятель семейства знаменитого музыканта, ушел от них не более как за полчаса до моего прихода. Вот это и было, по словам Лидии Карловны, главною причиною испуга ее матери «до умопомрачения». Затем эта милая девушка стала говорить мне, что как она, так, вероятно, и многие сотрудники перевода Туна сочтут своею нравственною обязанностью отправиться в жандармское управление и заявить о своем участии в названном издательстве, что такое сознание всех прикосновенных к этому делу, вероятно, облегчит судьбу моего сына, на котором теперь тяготеют их общие грехи, и в таком случае ему, вероятно, не будет грозить опасность покинуть навсегда университет.
Читать дальше