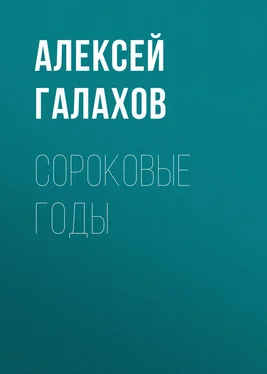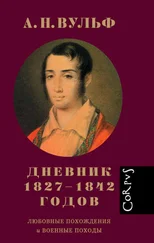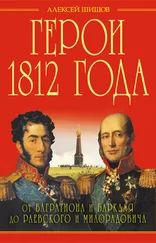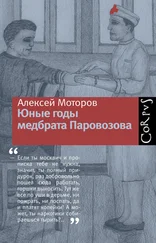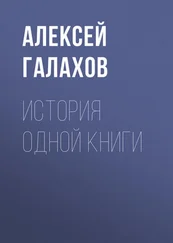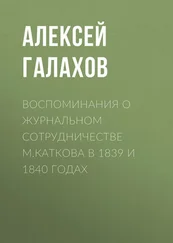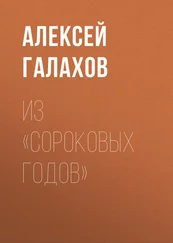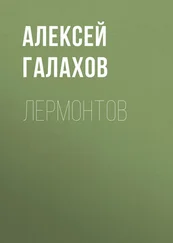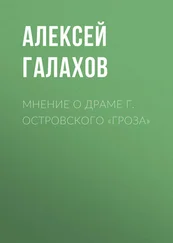Некрасов, как известно, охарактеризовал П. В. Анненкова в следующем стихотворении [8] «Русск. Архив», 1884, кн. 3, стр. 235: «Некрасов про ***».
:
За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке [9] Анненков действительно имел эту привычку.
,
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал.
Как всякая эпиграмма, в которой, по пословице, на брань слово покупается, характеристика не верна, потому что исключительна, одностороння. Талантливый, образованный и с несомненным эстетическим тактом, Павел Васильевич Анненков написал много умных статей, которые ценились образованными читателями, но не нравились читателям полуобразованным.
Литературную известность дали ему впервые «Парижские письма»; они помещались в «Отечественных Записках» и умно, интересно изображали тогдашнее состояние Франции. Затем следовало издание «Писем Н. Станкевича», с приложением его «биографии»: здесь охарактеризовано движение молодых людей (так называемый «кружок Станкевича») к современной философии Гегеля. Статья, под заглавием: «Литературный тил слабовольного человека», полемизирует с статьей Н. Г. Чернышевского: «Русский человек на rendez-vous», напечатанной в «Атенее» (московском журнале, издававшемся Е. Ф. Коршем) и преследовавшей нерешительность, вялость русского человека, отсутствие инициативы в героях Тургенева. Новые произведения тогдашних беллетристов встречали в Анненкове осторожного, но всегда умного оценщика, как видно из собрания его сочинений (три тома). Никто из занимавшихся серьезно отечественной литературой не сомневался в дельности, рассудительности его критики; осуждали только иногда особенность его стиля, как бы умышленно избегавшего простоты и стремившагося к фигуральным выражениям. Это был личный, субъективный слог, отражение свойств писателя, по выражению Бюффона (le style – c'est l'homme). Typгенев, всегда ценивший талант и образованность Анненкова, сравнивал его манеру писать с замашкой такого человека, который, желая почесать у себя в голове, исполняет свое желание не просто, а, подобно акробату, через колено.
Наконец, издание сочинений Пушкина (1855-57) с «Материалами для его биографии», равно как и самая биография, к сожалению, доведенная только до 1826 года, составляют капитальную заслугу Анненкова. Оно впервые дало возможность приступить к всестороннему изучению гениального поэта. Труды издателя были по справедливости оценены Московским университетом. избравшим его в свои почетные члены, по истечении пятидесяти лет от смерти Пушкина.
Перехожу к моему знакомству с Белинским. Впервые мы встретились в 1834 или 1835 году у моего университетского товарища Селивановского, сына некогда известного типографщика. В доме его занимал квартиру Надеждин, издатель «Молвы», в которой явились «Литературные мечтания», заинтересовавшие весь московский читающий люд. В один из приемных дней, вечером, у Селивановского сошлись: я, В. П. Боткин и H. А. Полевой. Последний, по запрещении «Телеграфа», занимался тогда редакцией «Живописного Обозрения», издателем которого был типографщик Семен. После чая, перед ужином, вошел Белинский, помещавшийся, если не ошибаюсь, в квартире Надеждина, у которого состоял главным сотрудником. Хозяин и Полевой встретили его, как уже знакомое лице. Это доказывалось их свободным и шутливым с ним обращением. Селивановский даже трунил над его отпущенными усами, называя их знаком литературного удальства. Белинский видимо конфузился, но был разговорчив и весел. Затем мы сходились в так называвшейся «Литературной кофейне», которую почти ежедневно посещали артисты московских театров и любители чтения газет и журналов, особенно принимавшие участие в их издании. Впрочем, Белинский редко приходил туда, занятый срочною работою у Надеждина. В 1837 г. он напечатал первую часть (этимологию) своей «Русской грамматики для первоначального обучения». Я послал отчет о ней к Краевскому, в «Литературные Прибавления» к «Русскому Инвалиду» [10] 1837, No№ 36 и 37.
: в этом отчете отдано должное его труду, особенность и новость которого (по тогдашнему времени) заключалась в том, что значение частей речи выводилось из разложения предложения, иначе: исходным пунктом этимологии полагался синтаксис. Белинский был очень доволен этим указанием: он благодарил меня, что я выставил напоказ именно то отличие его учебника, которое он сам ценил преимущественно и которым его труд отличается от других трудов по тому же предмету [11] Другой разбор той же книги (К. С. Аксакова) основан на противоположном начале.
. Вскоре после этого мы сошлись еще ближе, благодаря общему сотрудничеству по критике и библиографии в двух повременных изданиях: в «Прибавлениях к Инвалиду», и в «Отечественных Записках» первого года (третьим товарищем в том же деле был М. H. Катков). Сбираясь на переселение в Петербург, Белинский рекомендовал мне, вместо себя, П. Н. Кудрявцева, еще студента, но уже заявившего себя в литературе повестями, которые, под псевдонимом Нестроева, помещалис в «Наблюдателе», когда этот журнал издавался типографщиком Степановын, а редактировался Белинским. За эту рекомендацию я душевно благодарил его: трудно было найдти лице, более талантливое, более знакомое с отечественной литературой и более добросовестное для того дела, за которое он взялся. Супруга Белинского, Марья Васильевна Орлова, была классной дамой в Московском Александровском институте, где я преподавал русский язык и словесность и, сверх того, занимал должность помощника инспектора классов. Она и некоторые из её сослуживиц отличались любознательностью, интересовались современной литературой. Я снабжал их «Отечественными Запискамя», «Современником» и другими книжными новостями. Наезжая в Петербург, я большею частию имел притон у Краевского, но, разумеется, посещал и Белинского, который удивлялся моей привязанности к Москве и чаепийству: ни того, ни другого он очень не жаловал. Переписки между нами не было, но в письмах к Кудрявцеву он посылал мне поклоны, как «общему другу» (его и Кудрявцева).
Читать дальше