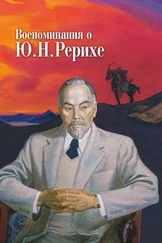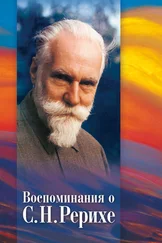Однако и скандалы сменились другими настроениями. Есенин пытался ездить, побывал на Кавказе, написал о нем цикл стихов, но это не дало облегчения. Как бывало и раньше, захотел он «повернуть к родному краю». Снова пытался смириться, отказавшись и от Инонии, и от Руси, – принять и полюбить Союз Советских Республик, каков он есть. Он добросовестно даже засел за библию СССР, за Марксов «Капитал», – и не выдержал, бросил. Пробовал уйти в личную жизнь, – но и здесь, видимо, не нашел опоры. Чуть ли не каждое его стихотворение с некоторых пор стало кончаться предсказанием близкой смерти. Наконец он сделал последний, действенный вывод из тех стихов, которые написал давно, когда правда о несостоявшейся Инонии только еще начинала ему открываться:
– Друг мой, друг мой! Прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть.
Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно – умереть.
Chaville, февраль 1926
Николай Клюев
Бесовская басня про Есенина
Много горя и слез за эти годы на моем пути было. Одна скорбь памятна. Привели меня в Питер по этапу, за секретным пакетом, под усиленным конвоем. А как я перед властью омылся и оправдался, вышел из узилища на Гороховой, как веха в поле, ни угла у меня, ни хлеба. Повел меня дух по добрым людям; приотъелся я у них и своим углом обзавелся. Раскинул розмысли: как дальше быть? И пришло мне на ум написать письмо Есенину, потому как раньше я был наслышан о его достатках немалых, женитьбе богатой и легкой жизни. Писал письмо слезами, так, мол, и так, мой песенный братец, одной мы зыбкой пестованы, матерью-землей в мир посланы, одной крестной клятвой закляты, и другого ему немало написал я, червонных и кипарисовых слов, отчего допрежь у него, как мне приметно, сердце отеплялось.
В городе дни – чердачные серые кошки, только растопляю я раз печку: поленья сырые, горькие, дуну я на них. Глотаю дым едучий. Выело у меня глаза дымом, плачу я, слезы с золой мешаю, сердцем в родную избу простираюсь, красную лежанку вспоминаю, избяной разоренный рай… Только слышу, позади меня стоит кто-то и городским панельным голосом на меня, как лошадь, нукает: «Ну, ну!» Обернулся я, не признал человечину: стоит передо мной стрюцкий, от каких я на питерских улицах в сторону шарахаюсь. Лицо у него не осеннее и духом от него тянет погибельным, нос порошком, как у ночной девки, до бела присыпан и губы краской подведены. Есенин – внук Коловратов, белая верба рязанская! Поликовался я с ним как с прокаженным; чую, парень клятву преступил, зыбке своей изменил, над матерью-землей надругался, и змей пестрый с крысьей головой около шеи его обвился, кровь его из горла пьет. То ему жребий за плат Вероники; задорил его бес плат с Нерукотворным Ликом России в торг пустить. За то ему язва: зеленый змий на шею, голос вороний, взгляд блудный и весь облик подхалюзный, воровской. А как истаял змиев зрак, суд в сердце моем присудил – идти, следа не теряя, за торгашом бисера песенного, самому пол его обозреть; если Бог благословит, то о язвах его и скверностях порадеть.
Так и сталося. Налаял мне Есенин, что в Москве он княжит, что пир у него беспереводный и что мне в Москву ехать надо.
Чугунка – переправа не паромная, не лодейная, схвачен человек железом и влачит человека железная сила по 600 верст за ночь. Путина от Питера до Москвы – ночная, пьяная, лакал Есенин винища до рассветок, бутылок около него за ночь накопилось, битых стаканов. Объедков мясных и всякого утробного смрада – помойной яме на зависть. Проезжающих Есенин материл, грозил Гепеу, а одному старику, уветливому, благому, из стакана в бороду плеснул; дескать он, Есенин, знаменитее всех в России, потому может дрызгать, лаять и материть всякого.
Первая мука минула.
Се вторая мука. В дрожках извозчичьих Есенин по Москве ехал стоймя, за меня сидячего одной рукой держась, а другой шляпой проходящим махал и всякие срамные слова орал, покуль не подъехали мы к огромадному дому с вырванными с петель деревянными воротами.
На седьмом этаже есенинский рай: темный нужник с грудами битых бутылок, с духом вертепным по боковым покоям.
Встретили нас в нужнике девки, штук пять или шесть, без лика женского, бессовестные. Одна в розовых чулках и зеленом шелковом платье. Есенинской насадкой оказалась. В ее комнате страх меня объял от публичной кровати, от резинового круга под кроватью, от развешанных на окне рыбьих чехольчиков, что за ночь накопились и годными на следующую оказались.
Читать дальше