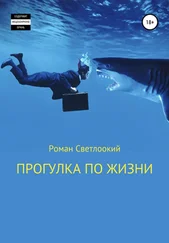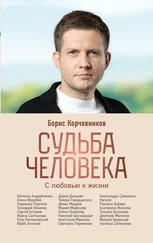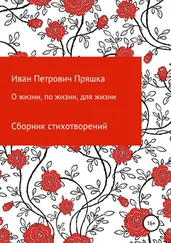Формально подчинившись окрику, Эйзенштейн до предела оттягивает решение с утверждением актрисы на роль царской тетки. Вовсю уже идут съемки, а актрисы нет! Возможно, он надеется, что ее отсутствие, ставящее под угрозу срыва выполнение производственных планов, вынудит Большакова отступить. При этом идет как бы безостановочный поиск другой актрисы.
В течение почти всего сорок третьего года Большаков присылает Эйзенштейну и студии то более или менее увещевательные, то гневные телеграммы и письма о постоянных просрочках сдачи первой серии. Понимая возрастающее напряжение, Эйзенштейн, по-прежнему отстаивая свои права художника, снова возвращается к кандидатуре Фаины Георгиевны. Хотя уже получено согласие Серафимы Бирман, которая давно и почти отчаявшись ждет вызова. Его послания с этим «возвращением» в фонде нет, но есть ответ Большакова. Он свидетельствует об упорстве и этой стороны, но лаконичная телеграмма от 20 октября 1943 г. хороша интонацией явной усталости в споре с упрямым режиссером: «Правительственная. Алма-Ата. Киностудия Тихонову копия Эйзенштейну Раневская роль Евфросиньи не подходит – Большаков».
«Итак, Раневская… Уже довольно давно, – пишет Л.Козлов в статье «Еще о казусе Раневской», – мне удалось прочесть в машинописи некоторые главы из мемуаров И.Г. Большакова. Среди прочего, бывший министр вспоминает и об истории постановки «Ивана Грозного» и, в частности, о том, как была отвергнута Кинокомитетом известная кандидатура на роль Евфросиньи Старицкой. Объясняет он это очень просто: дескать, Эйзенштейн, увлеченный своим замыслом, никак не желал учитывать тот факт, что в сознании советских кинозрителей актриса прочно ассоциировалась с ее комедийной ролью в фильме «Подкидыш» (знаменитое «Муля, не нервируй меня!»), и эта ассоциация помешала бы правильно воспринимать образ боярыни Евфросиньи… Утверждая это, Иван Григорьевич явно лукавит – по-видимому, в расчете на наивного читателя. Будучи руководителем кинематографии, он не мог не знать тех непреложных случаев из режиссерской и актерской практики, когда новая экранная роль большого артиста пресекала зрительские «апперцепции», заставляя забыть о его предыдущих ролях (например, у Черкасова после Кольки Лошака был профессор Полежаев, а после царевича Алексея – Александр Невский). Так что о «Подкидыше» можно было бы и не вспоминать. Если уж на то пошло, важнее было другое: в 1942 году кинематографическое руководство хорошо помнило, что после «Подкидыша» у Раневской была еще одна, совершенно другая кинороль – роль польской еврейки Розы Скороход в фильме Михаила Ромма «Мечта», завершенном к началу войны и выпущенном на экраны только осенью 1943 года.
Решительно все, кто увидел эту картину раньше или позже, были согласны в высочайшей оценке актерской работы Раневской, роль, сыгранная ею, стала воистину главной. В своей рецензии 1943 года Сергей Юткевич писал: «В той отвратительной стяжательнице, которую изображает актриса, Раневской удалось найти черты глубокой человечности. Диапазон роли оказался многогранен, рядом с подлинным юмором возникла подлинная трагедия».
Говоря о эйзенштейновском выборе Раневской на роль Евфросиньи, Л.М. Рошаль усматривает в этом «тогда еще мало кому понятное, провидческое угадывание огромных трагических потенций актрисы». Тут надо добавить, что в этом предвидении Эйзенштейну было из чего исходить. Когда ставилась «Мечта», он был художественным руководителем студии, внимательно следил за работой Ромма и, следовательно, видел Раневскую в экранном образе Розы Скороход еще до того, как фильм был закончен, – а стало быть, не мог не оценить трагический дар актрисы и ее способность к перевоплощению. Вполне возможно, что он видел Раневскую в материалах фильма еще в 1940 году – а если это так, то не исключено, что в сценарии «Ивана Грозного», начатом в январе 1941-го, он с самого начала мог разрабатывать образ Евфросиньи Старицкой в расчете на воплощение этого образа именно Раневской. Так или иначе, альтернатив у режиссера не было.
«Проблема Раневской» начала, пока еще неопределенно, возникать летом 1942 года, о чем свидетельствует следующее письмо Раневской из Ташкента в Алма-Ату:
12-6-42
«Дорогой Сергей Михайлович, ничего не понимаю: – получила телеграмму от И.В. Вакара с просьбой приехать на пробу во второй половине мая; – ответила согласием, дожидалась вызова. – Вступаем во вторую половину июня – а вызова все нет и нет!! М<���ожет> б<���ыть> Вы меня «отлучили от ложа, стола» и пробы? Будет мне очень это горестно, т<���ак> к<���ак> я люблю Вас, Грозного и Ефросинью!
Читать дальше
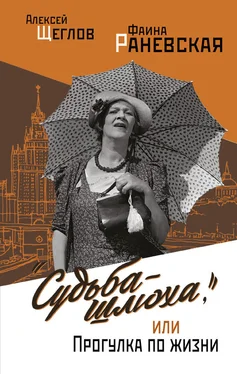
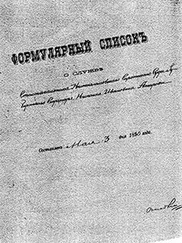
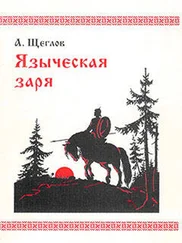

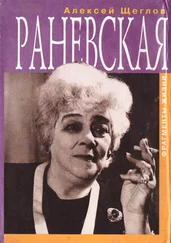
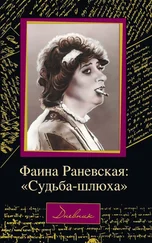
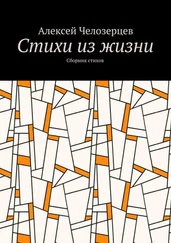
![Бентли Литтл - Прогулка в одиночестве [сборник]](/books/386927/bentli-littl-progulka-v-odinochestve-sbornik-thumb.webp)