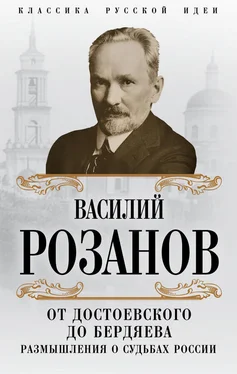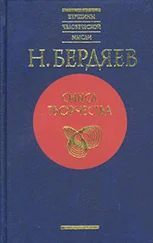Эту степень вероятия, оглядываясь на пройденный путь, мы можем признать за мыслью, положенною нами в основу объяснения двух великих сфер природы – органического мира и человеческой истории. Сила целесообразности, являющаяся в первом как органическая энергия, зиждущая, устрояющая и совершенствующая его в частях и в целом, – во втором является как психическая деятельность, которая, нарастая во времени (в силу целесообразной природы своей), становится творчеством. Таким образом, две объясняемые сферы природы, запечатленные одинаковою чертой – присущим им развитием, являются носителями одного и того же начала, но которое проявляется в каждой из них в различной форме. Глубокая соотносительность между органическою энергией и психическим творчеством, которую мы проследили фактически на явлении красоты в природе и во всех важнейших, всеобщих явлениях истории, заставила нас признать это единство; а нарастание во времени этого общего для органического мира и для истории начала, в связи с законом возрастания энергии всякого явления по мере приближения его к своему источнику, побудило нас признать это начало за целесообразность.
Идея целесообразности, таким образом, дозволяет нам хоть как-нибудь понимать природу в целом; и в этом мы видим ее преимущество перед идеей механической причинности, которая остается как теория – в одной стороне, а природа как целое – в другой, без какого-либо соответствия, взаимно бесполезные друг для друга. Только внешнюю и детальную сторону отдельных явлений механическая теория объясняет правильно и просто, и насколько наука состоит в объяснении их – она может пользоваться ею. Но всякий раз, когда от анализа она восходит к синтезу, когда она хочет возвыситься до понимания всей красоты, устроенности и (в особенности) развития природы, она не может ничего иного сделать, как, оставляя механизм в значении пособия при объяснении, сделать центральным в этом объяснении – понятие целесообразности. Причинность участвует в устройстве мироздания, но устрояет его – целесообразность, всегда при помощи причин как посредствующего, – и хоть необходимого, но служебного.
Кто приступает к изучению природы без каких-либо других целей, кроме как понять ее, не может уклоняться от этого принципа, столь удобного для понимания. Но исключительность этой цели столь редка, что мы не можем не признать стремления к ней одной – чем-то действительно трудным для человека. И, между тем, это трудное есть единственное условие внутренней свободы науки, то есть одинаковой готовности ее воспользоваться всяким объяснением, которое удобно. Трудно человеку поклоняться одной истине, и он вечно ищет еще каких-то иных богов, даже когда, по-видимому, враждует с ними.
Размолвка между Достоевским и Соловьевым
Очень скоро после смерти Достоевского Вл. Соловьев, бывший при жизни в некотором духовном подчинении ему, начал быстро и энергично расходиться с ним. В третьем томе «Сочинений» покойного философа помещены статьи, где мы наблюдаем первые шаги этого расхождения. Каковы были основные его побуждения?
В лучших, золотистых своих страницах Достоевский навевал на читателя грезы всемирной гармонии, братства человеков и народов, гармонии жителя земли с этою обитаемою им землею и небом; «Сон смешного человека», в «Дневнике писателя» и некоторые места в романе «Подросток» дают в Достоевском почувствовать сердце, которое не словесно только, но реально прикоснулось тайне этих гармоний. Наполовину слава Достоевского основывается на этих золотых его страницах, как ее другая половина основана на знаменитом его «психологическом анализе», если и не высший, то самый знаменитый пример которого дан в «Преступлении и наказании». На прямой и краткий вопрос: «Да за что вы любите так Достоевского?», «за что Россия так чтит его?» – всякий скажет кратко и почти не думая: «Как же, это самый проницательный в России человек и самый – любящий ». Любовь и мудрость – вот два венца Достоевского, около которых более проблематичны остальные.
В одном месте выражения этой экстатической любви, в «Бесах», он говорит: «Я – всему молюсь; вот ползет паук по стене – я и ему молюсь». Паук – это что-то злое. Но силона любви, из него исходившей, Достоевский преодолевал самое зло, разгонял потоками психического света всякую тьму, и, как в знаменитых словах о «солнце, восходящем над злыми и добрыми», – он тоже разламывал перегородки добра и зла и снова чувствовал природу и мир невинными, даже в самом зле их. В секунду этой «гармонии» – его лично, Достоевского, «гармонии» – вина снималась с мира, и он (Достоевский) знал тайну мира искупленного, о чем мы болтаем пустые деревянные слова, в сущности вовсе не зная и не постигая, что такое для мира быть «искупленным». Метафизический секрет этой «искупленности», нам только словесно известной, был открыт или по крайней мере секундами открывался Достоевскому. Те страницы, где проскальзывает этот секрет, и создали все положительное имя Достоевского, где он дал свой «тезис», в отличие от других, часто очень мрачных страниц его, где он развил множество «антитез» современной ему культуре, да и вообще сердцу человеческому («Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»).
Читать дальше