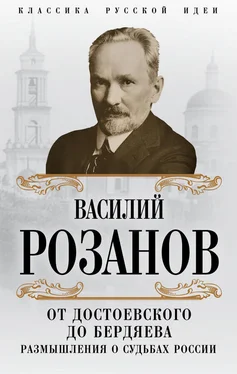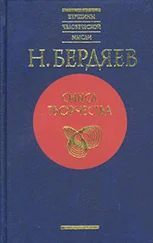Моменты временного понижения духовной жизни и окончательного падения исторических наций также находят свое объяснение в этом соотношении. Уже давно замечено, что за каждым великим усилием и высоким подвигом, который совершает какой-либо народ в своей истории, следует более или менее продолжительный период упадка его духовных и политических сил. Поразительный пример этого представляет Италия после Возрождения наук и искусств и Германия после эпохи Реформации: на всем протяжении этих стран в течение длинного ряда лет не выходит из недр народа не только ни одного великого дарования; но, следя за наукой, за характером общества, за церковью и политикой, мы с удивлением видим повсюду такую посредственность ума и слабость характеров, какой не находим у тех же народов в самые незначущие, средние эпохи их жизни. То же можно сказать об Испании после века Филиппа II и Сервантеса, когда она стояла во главе великого движения католицизма против реформации и героически боролась с мусульманским Югом и Востоком; это же наблюдаем мы и в России в три последние четверти XVIII века, следовавшие за эпохой преобразования ее Петром Великим и его сподвижниками. Историки долго и всегда напрасно отыскивали причины для этих временных падений, и не находили ничего другого в объяснение, кроме сетований на деспотизм государей или на упадок образования, дурное состояние школ и испорченность нравов; но, конечно, это только те же проявления упадка, для которого ищется объяснение, – это есть для всех очевидное следствие, а не искомая его причина. В распределении органической энергии, которая, сосредоточиваясь в одном пункте, ослабевает во всех ближайших, лежит истинная причина этих исторических явлений. Великое усилие в сфере политики, религиозных идей или искусства настолько истощает силы нации, или, что то же, родов, ее составляющих собою, что в течение ряда десятилетий ее едва хватает на повторение поколений, в которых психическая жизнь тускла, просвечивает сквозь организацию менее, нежели как она светит в обыкновенном нормальном человеке. И только когда проходит достаточное время отдыха, снова и без всякой видимой причины начинается для нации духовное пробуждение. Так называемый «период бурных стремлений» в протестантской Германии есть, кажется, самый типичный и, может быть, самый прекрасный пример подобного пробуждения; у нас мы наблюдаем его в радостном оживлении общества и литературы в начале царствования Александра I. Насколько незначущи при этом бывают внешние причины, это можно видеть из того, что духовное творчество нашего общества все возрастало, несмотря на гнет его при Аракчееве, а в царствование Николая I стало классическим по красоте и достоинству своих созданий.
Психическое творчество человека также относится к органической энергии, которою физически живет он, как цвет и плод дерева относятся к его древесине и росту. Несмотря на полное несходство одного и другого во внешних чертах, по взаимной им обусловленности мы заключаем, что они суть двоякое выражение чего-то одного. И дерево, как человек, принеся плод, ослабевает на время; и для него наступает зимний сон, во время которого оно перестает расти. И замечательно, что чем обильнее было цветение, тем сильнее бывает наступающая слабость. Опытные садовники, зная это соотношение, обрывают завязывающийся цвет растения ранее, чем он распустится и принесет плод. Этим они сохраняют растению его силы и удлиняют жизнь его. Но в истории, как и в безыскусственной природе, все развивается свободно, подчиненное только великим законам своим. Однако это не мешает нам наблюдать над нею и, открывая эти законы, вдумываться в их глубокий смысл.
Есть даже растения, которые цветут только однажды и, принеся плод, умирают. Этот пример удобен для того, чтобы, снова возвратившись к истории, сказать еще несколько пояснительных слов об умирании исторических народов. Если всякий подъем в народе психического творчества вызывает упадок его сил на более или менее продолжительное время, то ряд этих подъемов (как в новой европейской истории) или постепенное и непрерывно возрастающее творчество, разрешающееся наконец множеством самых чудных созданий, появляющихся почти одновременно (как в античной истории), совершенно истощает его силы и производит его окончательное угасание. Только масса простого народа, которая, ежедневно физически трудясь, не имела никакой возможности преобразовать свою органическую энергию в психическую, остается жизненною и продолжает существовать как этнографический материал; исторические же роды, то есть совокупность высших классов, едва продолжают влачить свое существование. Они уменьшаются даже количественно, потому что рождения численно уже не покрывают умираний. Гордые и замкнутые еще более, чем прежде, эти классы раскрываются и, хотя с отвращением, принимают в себя частицы простого, жизненного народа (Спарта, Афины, Рим); из них именно происходят в это время все замечательные люди (напр., лучшие римские императоры, римские полководцы времен переселения народов и пр.). Но появление этих выдающихся личностей становится все более и более редким, потому что частицы простого народа, допускаемые в себя высшими классами, никогда не бывают значительны. Между тем слабость и малоспособность этих классов все возрастает. Лежа на народе как бремя, они только разлагают те слои его, которые непосредственно с ними соприкасаются, но уже не могут оказать ему ни в чем помощи, не в состоянии повести его ни к чему трудному, как бы оно ни было необходимо. С ними и через них народ и государство становятся беззащитными среди окружающих, свежих племен и, в конце концов, поглощаются ими; подобно тому, как великие остатки какого-нибудь жилища, в котором лежит только труп того, кто некогда соорудил его, жил в нем и защищал его, – растаскиваются на потребности свои случайными пришельцами. Зрелище такого постепенного поглощения представляет собою Рим времен падения Западной империи: покоривший некогда все народы, он был растоптан по частям дикими полчищами германцев, даже имен предводителей которых мы большею частью не знаем.
Читать дальше