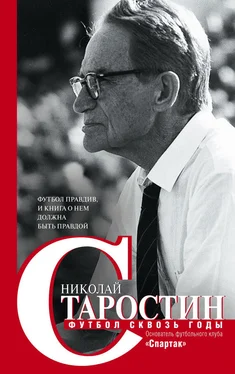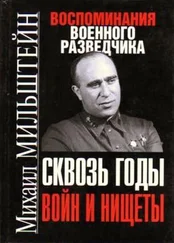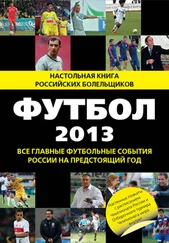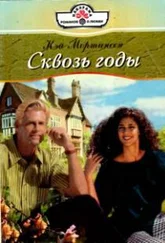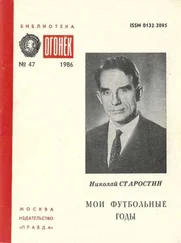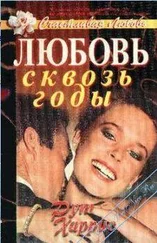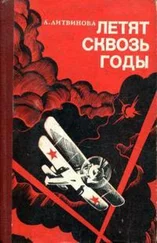Отец и его старший брат были на редкость дружны и всю жизнь прожили в одной квартире. Разговоры за столом всегда склонялись к темам охоты и по своей горячности, разнице оценок напоминали наши дебаты через 10 лет за тем же столом о футболе, где участники споров и слушатели во многом были почти те же, разве что в другом качестве.
Вот так должна была начаться наша дорога в егеря, по которой неуклонно шли мои прадеды и деды из деревни Тарховского уезда Псковской губернии, все те, кто составлял кланы Лихачевых, Зуевых и, наконец, Старостиных, из поколения в поколение обучавших охотничьему делу.
Почему мы, четверо братьев, свернули с тропы предков и ступили на другой путь, открывший нам непостижимый, загадочный, захватывающий, прекрасный мир футбола? Я не могу себе ответить: его магия необъяснима. Да и что объяснять, если даже дядя Митя, относившийся поначалу к нашему увлечению, мягко скажем, пренебрежительно, с издевкой, потом вдруг стал заядлым болельщиком, хотя и не хотел в том никому признаваться. Афиши тогда до Пресненского вала, где мы жили, не доходили, и он, словно невзначай, спрашивал у меня:
– А этот самый футбол когда опять у вас будет?
И посещал исправно нашу «Красную Пресню».
…Отец умер от тифа в 1920 году. Мы с Александром жили тогда в Москве, а вся семья – в Погосте.
Чтобы не умереть с голоду, приходилось все время что-то продавать. У отца было несколько подарочных ружей: каждое стоило по 200–300 рублей. Ружье удавалось поменять на два мешка ржаной муки. Цены были дикие. Картину Левитана меняли на мешок муки или на мешок картошки. Раздобыв обменом съестное, отец поехал в Погост и в поезде заразился сыпным тифом. Крупный и сильный физически человек (зимой всегда на лыжах за волками, летом постоянно в болотных сапогах, с собаками) – такие люди очень тяжело переносили тиф. К тому же упрямый, он и не хотел принимать лекарств. Когда ему давали порошки, он их выплевывал.
Страшная телеграмма – «Отец умер» – шла в Москву три дня. Мы с Александром добирались в Погост на буфере поезда, тащились почти сутки. И опоздали: отца похоронили без нас.
Семья оказалась в трудном положении. Мне исполнилось 18 лет, Александру – 16, Клавдии – 13, Андрею – 12, Петру – 10, Вере – 6. Я оказался главой семьи. С тех пор стал за собой замечать повышенную ответственность и серьезность.
Отец похоронен недалеко от Загорска, на кладбище у шоссе. Когда «Спартак» выезжает на игры в Ярославль или Кострому, всегда прошу водителя остановить автобус. Выхожу и иду на могилу Петра Ивановича Старостина.
Никогда не претендовал на роль публициста. Не умел, не умею и сейчас разложить все по полочкам и настаивать на своих доводах безоговорочно, не желая слушать возражений. Заранее скажу, что не намерен поучать, книгу эту рассматриваю как субъективные заметки, наверное, в чем-то спорные, буду удовлетворен, если они послужат кому-то поводом для размышлений.
Смолоду я был в окружении людей, знавших толк в спорте и в футболе, умевших постоять за собственные взгляды. У меня дома, сначала на Пресненском валу, потом на Спиридоновке, как у старшего брата постоянно собирались младшие – Александр, Андрей, Петр, все известные мастера футбола, сестры – Клавдия и Вера, игравшие в волейбол и русский хоккей в динамовских командах, но тайно, из верности семейному клану, болевшие за «Спартак», бывали мой партнер по нападению «Красной Пресни» Виктор Прокофьев, защитник Павел Тикстон, хавбек Станислав Леута, нападающий Петр Артемьев, игрок, затем тренер Петр Попов… В этом родственно-дружеском кругу авторитетов не существовало, истину искали сообща. Скорее всего, тогда в нашем домашнем клубе я на всю жизнь запасся уважением к мнению людей, зрело разбирающихся в футбольном деле.
Мое приобщение к организованному футболу состоялось в 1916–1917 годах. Началось все с посещения игр первенства города среди учебных заведений, в котором безуспешно участвовала команда коммерческого училища братьев Мансфельд, где я учился. Главный фаворит турнира – команда императорского коммерческого училища – из года в год сражалась за первое место с командой духовной семинарии, которую в народе запросто называли «попы». В ней выступали известные московские футболисты, сыновья священников: Николай Троицкий из клуба «Новогиреево» играл правого инсайда, являясь главной надеждой своих сокурсников, его однофамильцы братья Сергей и Алексей Троицкие из СКЗ (спортивный кружок Замоскворечья) составляли боевую линию нападения. «Попы» упорно рвались в чемпионы, но в итоге «императорцы» все-таки взяли верх при помощи своих асов, Павла Канунникова и Сергея Бухтеева, известных всей футбольной Москве.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу