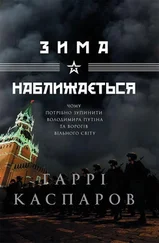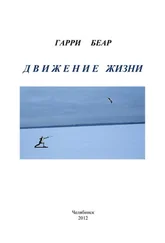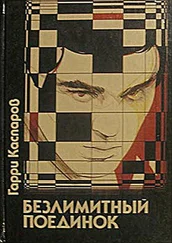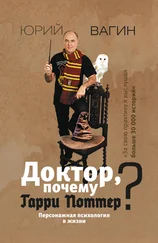Предметное исследование: кризис в Севилье
После завоевания мировой короны (19Н5) у меня было очень мало времени, чтобы насладиться вкусом победы.
По правилам ФИДЕ чемпион был обязан защищать титул каждые три года. За это время претендент проходил через сито многочисленных отборочных турниров и матчей. И когда он достигал финала, уже не оставалось сомнений в его способности составить чемпиону серьезную конкуренцию. С начала действия квалификационной системы (1948) лишь двум шахматистам, игравшим матч за корону, не удалось стать чемпионами мира.
Однако в моем случае этот процесс был нарушен. Еще в 1977 году ФИДЕ, в угоду Карпову, вернула в правила пункт о матче-реванше, отмененный в начале 60-х. В случае поражения чемпион автоматически, без какого-либо отбора, получал право сыграть через год матч-реванш. Этим правом с большой пользой для себя воспользовался Ботвинник, победив Смыслова (1958) и Таля (1961). Он проиграл им матчи на первенство мира, но в матчах-реваншах был несокрушим и дважды вернулся на трон, ограничив срок царствования своих «обидчиков» одним годом.
Чтобы избежать такой участи, я должен был победить Карпова и в 1986 году. При том, что мы уже сыграли и самый продолжительный матч в истории (1984/85), и второй матч (1985), в котором я отобрал у Карпова титул… Собравшись, я выиграл матч-реванш (1986), но и на этом испытания не закончились! Несмотря на все наши матчи, трехлетний отборочный цикл ФИДЕ остался неизменным, и уже в 1987 году я должен был встретиться в матче с очередным претендентом.
Догадываетесь, кто стал моим соперником? Конечно же, снова Карпов! ФИДЕ освободила его от обязанности играть в серии матчей претендентов и допустила сразу в «суперфинал», где экс-чемпион учинил показательный разгром победителю отборочного цикла Андрею Соколову.
В октябре 1987-го я прибыл в испанскую Севилью на свой четвертый матч на первенство мира за последние три года. Если в 1984-м я чувствовал, что устал смотреть на Карпова, то теперь лицезреть его ежедневно стало уже про сто пыткой. Но по крайней мере на этот раз не ожидалось никаких новых махинаций: в случае победы или ничьей я на три года освобождался от необходимости видеть перед собой каждый день этого или любого другого претендента на титул.
Как распознать приближение кризиса
Предвидение кризиса — особое искусство. Говоря о кризисе, я не имею в виду катастрофу. Не нужно большого мастерства или глубокой проницательности, чтобы осознать несчастье, когда оно уже произошло или вот-вот произойдет. В своей речи 1959 года в Индианаполисе Джон Ф. Кеннеди заметил, что китайское слово «перемена» состоит из двух иероглифов, один из которых означает «опасность», а другой «возможность». На самом деле это не совсем верно, но выглядит поэтично, хорошо запоминается и иллюстрирует очень полезную концепцию.
В повседневной жизни мы всё чаще склонны употреблять слово «кризис» как синоним «катастрофы», не требующий дальнейшего разъяснения. Я был несколько удивлен, что в толковом словаре оно подразумевает поворотную точку или критический момент, когда ставки высоки, а исход дела неопределен. Кризис — это момент, когда развитие событий приобретает необратимый характер. Иными словами, в значении этого слова присутствует и опасность, и возможность, так что по сути дела Кеннеди был прав.
Самая большая опасность таится в попытке избежать кризиса. Как правило, это означает, что кризис просто откладывается на более позднее время. Большой успех и минимальный риск поражения — цель, которую преследуют многие люди, особенно в современной политической и деловой среде. Такое вполне возможно при хороших стартовых условиях (например, когда наследник состояния входит в бизнес своего предшественника). Но для подавляющего большинства успех зависит от умения определять, оценивать и контролировать степень риска. Из этих трех факторов определение степени риска является наиболее важным и всегда самым трудным. Важным, так как без этого в случае кризиса мы сможем лишь бороться за выживание, вместо того чтобы контролировать степень риска. Трудным, поскольку это требует внимания к самым незначительным переменам.
Десятый чемпион мира Борис Спасский однажды заметил, что «лучший показатель спортивной формы шахматиста — это способность чувствовать кульминационный момент игры». Практически невозможно всегда делать лучшие ходы, поскольку точность достигается за счет времени, и наоборот. Но если мы можем распознавать решающие моменты, то способны принимать лучшие решения именно тогда, когда они нужны больше всего. Различные моменты игры далеко не равноценны, и приходится полагаться на интуицию, подсказывающую нам, что настал момент, требующий более продолжительного размышления, потому что наше решение может определить исход партии.
Читать дальше