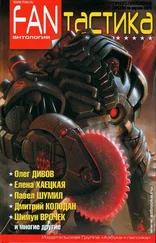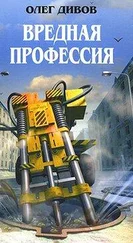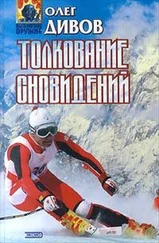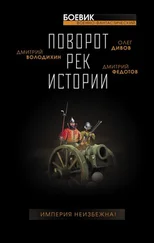Очень много отличных икон. И все они потихоньку излучали вовне, формируя в хранилище атмосферу удивительного покоя. Воздух был, как положено, холоден и сух. В иных обстоятельствах дискомфортно холоден, градусов пятнадцать. Но когда вокруг такие иконы, желание только одно: впасть в нирвану и остаться рядом с ними навсегда.
Я как раз отлип от Феофана Грека, и теперь всем сердцем впитывал работу Дионисия, когда почувствовал: что-то оттягивает мое внимание. Какой-то объект на самой границе поля зрения. Аж метрах в десяти – и оттягивает. Не потому что цветовое пятно, а потому что… оттягивает.
Я повернулся и обомлел…
С детства люблю древнерусскую живопись. Особой любовью, характерной скорее для потомственного реставратора, коим не стал лишь по стечению обстоятельств. Но мне еще мальчишкой доводилось немного работать с иконами в режиме подмастерья, и я на всю жизнь запомнил неповторимое ощущение комфорта, которое дарит талантливо написанная и хорошо намоленная доска, взятая в руки. Ведь иконы все разные. Во-первых, как любая картина, икона тем лучше воздействует на э-э… потребителя, чем более способный мастер над ней трудился. Во-вторых, ей действительно нужно поклоняться. Много, долго и с наслаждением. Тогда доска постепенно начинает теплеть и генерировать ауру благолепия, о которой я только что говорил, и коей хранилище было пропитано насквозь. Кстати, по моим ощущениям, процесс взаимообмена эмоциями «человек– доска –человек» здорово тормозится, если икону закрывает оклад. Реставраторы оклады недолюбливают – лакокрасочный слой под металлом разрушается очень быстро. У меня отношение другое, мне железка мешает общаться с иконой, от которой остаются только лик святого, да кисти рук.
Я мог бы долго распространяться о том, какую роль в формировании взаимодействия между иконой и человеком, пусть даже неверующим, играет канон, согласно которому доска расписывается. Мне доводилось видеть модернистские опыты в данном направлении, и соблюдение канона чувствовалось – это тоже можно было воспринимать адекватно, т.е. при желании ощущать будто нормальную православную икону. Но как любой художественный метод, канон не всесилен. Талант иконописца еще никто не отменял. По идее Спас Ярое Око должен прожигать тебя глазом насквозь. По идее же даже такой лобовой изобразительный эффект можно свести на нет халтурным исполнением. Есть только один известный мне вариант, когда отсутствие художественного дара компенсируется, иногда даже с лихвой, даром несколько иным. Доску можно расписать с безграничной любовью к ней. И тогда являются на свет иконы беспредельно наивные, но и до такой же степени милые, трогательные, живые. И бывает, что дешевенькая «краснушка» (это иконы для бедных, у них цвет такой характерный), над исполнением которой ты внутренне хихикаешь, нравится куда больше профессиональной, но увы, холодной работы.
Тем более, что «краснушку»-то любили. А ведь каждый год, что довелось иконе пожить настоящей полноценной жизнью, делает ее все более и более иконой. И некоторые чересчур тонкие и чувствительные индивидуумы – наподобие меня, – ощущают это буквально: хоть руками.
Помню, участвовал однажды в варварской операции. Большую икону неудачно деформировало, и деревянные клинья, сшивающие ее на обороте, не справлялись с задачей. Нужно было как-то жестко скрепить доски, иначе картинку порвало бы (опять, в чем и состояла главная проблема) уже через полгода. При музейной работе выход был бы один – раз икону хронически рвет на части, нужно лакокрасочный слой и еще миллиметров пять дерева пересадить на новую основу. Сначала заклеить сверху несколькими слоями микалентной бумаги на рыбьем клею, затем пилить специальной пилой месяц без продыху. Найти подходящие доски, выдержанные лет сто–сто пятьдесят, сшить, вырезать в них ковчег. За это время лакокрасочный слой под собственным весом распрямится, и его можно будет вклеивать по новому месту прописки. Ну, а там еще месячишко покорпеть – и готово. Аналогичная работа с Николой Поясным (размером с хороший письменный стол), удостоившаяся аж большой статьи в журнале «Наука и жизнь» (а время-то было советское) заняла почти год. Сами понимаете, в коммерческой реставрации такие методы применяются крайне редко. Ни у мастера здоровья не хватит, ни у заказчика – денег. Кроме того, заказчику, у которого икона просто висит на стенке, аки нормальная живопись, и не нужен какой-то сверхъестественный уровень реставрации. Ему хочется, чтобы вещь хорошо выглядела и не разваливалась. Ну, и в данную конкретную икону, скрепя сердце, загнали неимоверной длины, сантиметров двадцати, шурупище. Естественно, под острым углом, из-за чего шляпка неэстетично торчала наружу. Кто-то должен был аккуратно снять выступающий кусок металла напильником. Это оказался я. И знаете, те полчаса, что я с иконой возился, помню до сих пор, хотя прошло уже лет пятнадцать. Доска была солидных размеров, больше метра в высоту, я просто ее поставил на попа, сел, прижал к себе тыльной стороной, начал пилить… И все это время она меня успокаивала. Конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века, то есть относительно молодая, эта икона явно успела хорошо поработать по специальности. Совершенно не помню, что там было изображено, но габариты выдавали доску, спасенную из разоренной большевиками церкви. И ту сотню с небольшим лет, что ей удалось прожить жизнью, к которой она была изначально предназначена, икона впитывала, как губка, радости и горести людские. К ней обращались с надеждой и мольбой, ее просили о чем-то, на нее надеялись. В итоге она стала живой. И какую-то часть душевного тепла человеческого пронесла в себе через все большевистское лихолетье. А теперь щедро делилась теплом этим, нерастраченным, со мной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

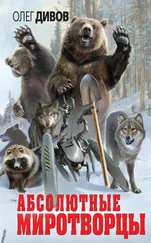


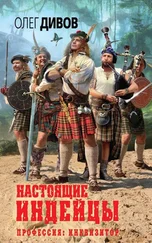

![Олег Дивов - У Билли есть хреновина [сборник]](/books/175102/oleg-divov-u-billi-est-hrenovina-sbornik-thumb.webp)