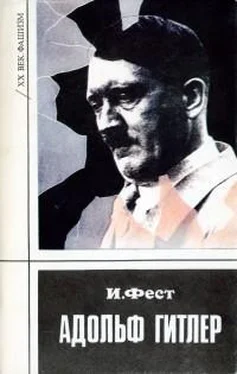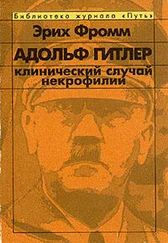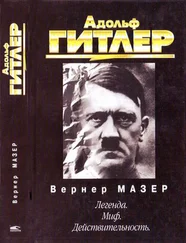Но не одним лишь великолепно задуманным планом операции объясняются немецкие успехи. Когда армии Гитлера после охватывающего маневра у побережья Ла-Манша повернули затем на юг, они повсюду встречали уже потерявшего мужество, сломленного противника, чья обреченность еще больше усугублялась творившейся на севере неразберихой. Французское верховное командование оперировало соединениями, которые давно уже были разбиты, дивизиями, которые были рассеяны, дезертировали либо просто развалились сами собой, Уже в конце мая один британский генерал назвал французскую армию «скопищем черни» без малейшего намека на дисциплину [392]. Миллионы беженцев, тащивших за собой тележки с нагроможденными в них пожитками, заполонили все дороги, они бесцельно брели просто куда глаза глядят, задерживали движение своих воинских частей, втягивали их в сумятицу, оказывались в тылу немецких танков, метались в панике под бомбами и воем сирен пикирующих бомбардировщиков, и в этом неописуемом хаосе тонула любая попытка организованного военного сопротивления – страна была готова к обороне, но не была готова к гибели. У французской ставки в Бриаре для связи с войсками и внешним миром имелся один-единственный телефонный аппарат, да и тот не функционировал с двенадцати до четырнадцати часов, потому что телефонистка на почте уходила в это время обедать. Когда же командующий британским экспедиционным корпусом генерал Брук спросил о дивизиях, которые якобы должны были защищать «крепость Бретань», то новый французский главнокомандующий генерал Вейган только удрученно пожал плечами: «Я знаю, что все это чистая галлюцинация». Подобно генералу Бланшару, многие военачальники тупо глядели на оперативные карты как на белую стену – было такое впечатление, что на Францию и впрямь обрушились небеса [393].
Хотя немецкие планы битвы за Францию едва ли предусматривали какую-либо активность со стороны противника, и директивы походили скорее на указания по проведению многодневного учебного марш-броска, а не военного похода, Гитлер был, тем не менее, смущен такой скоростью продвижения собственных армий вперед. 14 июня его войска вошли через ворота Майо в Париж и сорвали с Эйфелевой башни трехцветный французский флаг; три дня спустя в течение одного дня Роммель совершил бросок на двести сорок километров, а когда в тот же день Гудериан сообщил, что он со своими танками дошел до Понтарлье, Гитлер запросил телеграфом, не ошибка ли это, «вероятно, имеется в виду Понтайе-сюр-Сон», Гудериан протелеграфировал: «Никакой ошибки. Лично нахожусь в Понтарлье на швейцарской границе» [394]. Оттуда он двинулся на северо-восток и вклинился с тыла в линию Мажино. Оборонительный вал, бывший не только основой стратегии Франции, но и всего ее мышления, пал почти без боя.
И тут как бы на помощь победе Германии, ставшей уже осязаемой, пришла Италия. Хотя Муссолини, как он любил говорить, ненавидел репутацию ненадежности, приставшую к его стране, и хотел путем «политики, прямой, как клинок шпаги», заставить забыть о ней, обстоятельства не благоприятствовали этим его намерениям. Его первоначальное решение не ввязываться в войну было поколеблено уже в октябре в результате немецких побед в Польше, в ноябре мысль, что Гитлер может выиграть войну, он воспринимал как «совершенно невыносимую», в декабре в разговоре с Чиано «открыто пожелал немцам поражения» и выдавал голландцам и бельгийцам сроки немецкого наступления, а в начале января направил Гитлеру письмо, в котором, пользуясь своим правом «декана диктаторов», самоуверенно растекался в советах и пытался нацелить Гитлера на Восток [395].
«Никто не знает лучше меня, поскольку я обладаю вот уже сорокалетним политическим опытом, что политика выдвигает тактические требования… Поэтому я понимаю, что Вы… избегали второго фронта. Россия тем самым, не шевельнув и пальцем, получила в Польше и Прибалтике большой выигрыш от этой войны. Но я, будучи революционером от рождения и никогда не меняя своих взглядов, говорю Вам, что Вы не можете постоянно жертвовать принципами Вашей революции в угоду тактическим требованиям определенного политического момента. Я придерживаюсь убеждения, что Вы не можете допустить, чтобы упало антисемитское и антибольшевистское знамя, которое Вы высоко несли на протяжении двадцати лет… и я безусловно исполню свой долг, если добавлю, что один-единственный дальнейший шаг по расширению Ваших отношений с Москвой имел бы в Италии опустошительные последствия…» [396]
Читать дальше