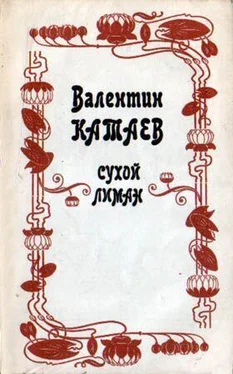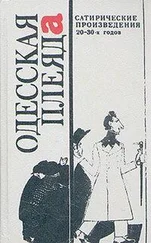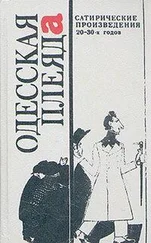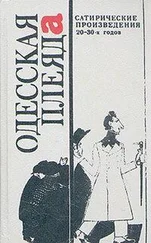Это, возможно, был поздний отзвук декабризма, связанный с именем полковника, кажется, Адельберга, последнего из уцелевших на юге декабристов.
Тогда еще двоюродных братьев не было па свете, и до них эти слухи дошли уже гораздо позже.
…Двоюродные братья шли по бульвару, где на другой стороне стояли странные громадные ворота в мавританском стиле, через которые можно было выйти к обрывам. Вилла, некогда принадлежавшая какому-то богатому негоцианту, не сохранилась. Через эти ворота, существовала легенда, выходил к морю молодой изгнанник Пушкин.
Двоюродные братья с привычным уважением смотрели на эти громадные черные ворота и представляли себе курчавого молодого человека, одетого по моде девятнадцатого века в узкий сюртучок и байроновский плащ, того самого знаменитого Пушкина, который в конце своей жизни написал Чаадаеву:
«Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу».
Повторив эти пушкинские слова, Михаил Никанорович засмеялся и сказал двоюродному брату, продолжая начатый еще в госпитальном саду разговор:
– Понимаешь, Саша: «Оно носит бороду, вот и все». Коротко и ясно. «Оно не принадлежит к хорошему обществу». Ну что ты на это скажешь? Ведь у нас с тобой общий дедушка – бородатый протоиерей, и если наши отцы, его сыновья, не стали священниками, то, во всяком случае, они тоже еще носили бороды, правда уже немного постриженные. Но в так называемое хорошее, то есть дворянское, общество при старом режиме приняты все-таки не были. Если и были, то с трудом. А мы с тобой уже гладко выбриты и принадлежим к хорошему обществу, уважаемы и даже награждены почетными званиями: ты член-корреспондент, я генерал медицинской службы, хотя уже в отставке и на пенсии.
Глядя на мавританские ворота, они представляли себе картину:
«Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа. Скала и Пушкин».
Еще в гимназические годы они видели в городской картинной галерее большое полотно, созданное двумя знаменитыми художниками: штормовое Черное море и прибрежную скалу, написанные Айвазовским, и фигуру Пушкина в развевающемся плаще на фоне этой скалы, написанную Репиным.
«Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа. Скала и Пушкин»…
Они дошли до угла и свернули на Пироговскую улицу, вдоль которой тянулась все та же госпитальная стена.
– А ты, Саша, помнишь дядю Яшу? – по какой-то странной ассоциации мыслей спросил Михаил Никанорович, медленно шагая вдоль больничной стены. – Я его почти не помню.
– А я хорошо помню, – ответил Александр Николаевич. – Однажды ранним утром у нас раздался звонок дверного колокольчика, и потом в комнату вошел дядя Яша в коротеньком пиджачке. В руках он держал узелок со своими пожитками. Оказалось, он только что приехал на пароходе из Николаева. У него было измученное, доброе, как бы я теперь сказал – достоевское, лицо. Он сел посреди нашей маленькой гостиной в старое плюшевое кресло и зарыдал. Я не мог этого вынести и тоже заплакал, а потом меня увели в другую комнату.
…– Дядю Яшу отвезли в городскую больницу, куда мой папа ездил его навещать и один раз взял с собой меня. Мы проехали на конке почти через весь еще незнакомый мне город и вышли на остановке как раз против городской больницы. Я увидел огромный желтый дом с белыми колоннами. Этот дом мне сразу чем-то не понравился, даже испугал. В этом доме, пропахшем всеми больничными запахами, в очень большой серой комнате, уставленной железными кроватями, на которых лежали и сидели больные в темных халатах, я увидел дядю Яшу, тоже в халате земляного цвета, из-под которого высовывались бязевые подштанники с тесемками. Перед ним на табурете, выкрашенном рыжей масляной краской, стояла жестяная тарелка с рисовыми котлетами под черносливовой подливкой.
…– Дядя Яша был похож на моего папу, только намного моложе, но с неряшливой, видно, давно уже не подстригавшейся бородкой и усами, мокрыми от черносливовой подливки. У него были пугающие глаза. Все это вселило в меня чувство ужаса. Папа обнял дядю Яшу, и они поцеловались…
…– Через несколько дней дядю Яшу привезли к нам на извозчике и устроили на старом диване в гостиной между фикусом в зеленой кадке и пианино. Другие комнаты были заняты. В одной жили мы с папой и мамой; моя кроватка стояла между двумя железными кроватями моих родителей. И там же находился комод, на котором всю ночь горел маленький керосиновый ночник в красном желатиновом абажурчике. В последней комнате находилась столовая, где за бамбуковыми ширмами жила вятская бабушка, маленькая молчаливая старушка. Нашу маленькую, дешевую квартиру наполнил больничный запах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу