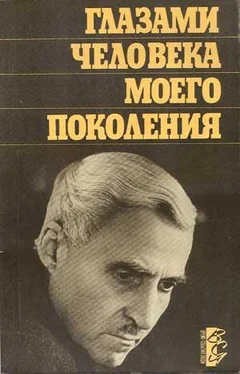— Остается решить, какую премию дать за пьесу, какой степени? — выдержав паузу, неторопливо сказал Сталин. — Я думаю…
Тут Друзин, решившись, наконец решившись, выпалил почти с отчаянием, очень громко:
— Он сидит, товарищ Сталин.
— Кто сидит? — не понял Сталин.
— Один из двух авторов пьесы, Четвериков сидит, товарищ Сталин.
Сталин помолчал, повертел в руках журнал, закрыл и положил его обратно, продолжая молчать. Мне показалось, что он несколько секунд колебался — как поступить, и, решив это для себя совсем не так, как я надеялся, заглянул в список премий и сказал:
— Переходим к литературной критике. За книгу «Глинка»…
После критики перешли к кино, тут хорошо помню, как я испытал некую мстительную радость, когда среди других фильмов была дана премия и фильму «Русский вопрос», к которому я имел отношение только как автор первоисточника сценария — пьесы. Все остальное было сделано Михаилом Ильичом Роммом, он был не только режиссером, но и автором сценария, для которого я написал всего несколько фраз, показавшихся Ромму необходимыми для последнего монолога героя пьесы Смита. Я получил премию за «Русский вопрос» годом раньше и, разумеется, в числе премированных на этот раз не фигурировал. А некоторая мстительная радость возникла у меня вот почему. Еще в последние годы войны при руководителе кинематографии был создан независимый от него художественный совет. Туда входили различные известные деятели искусства, литературы, журналисты, философы, председателем его был Леонид Федорович Ильичев, человек, уму и незаурядным способностям которого я отдавал должное, но при этом стойко и однообразно не любил его на всех тех постах, на которых он в разное время находился. Не любил за тот способ употребления своего ума и способностей, который он избирал в различных конфликтных ситуациях.
Я не бывал на художественном совете чуть ли не с первого послевоенного лета — не то два, не то три года, и явился на него, когда обсуждался фильм «Русский вопрос». Характер этого обсуждения после долгого перерыва поразил меня и по сути, и по форме. По форме тон, который задавал председатель, был желчным и грубым, а по сути от Ромма требовали того, чего не было в пьесе «Русский вопрос»: отношения с Америкой за время, пока делалась картина, сильно обострились, ужесточились, и от Ромма хотели, чтобы эту новую ситуацию сильно ожесточившихся отношений он механически перенес в фильм, действие которого, как и пьесы, разворачивалось сразу же после окончания войны в той атмосфере, которая тогда существовала, а не в той, которая сложилась к сорок восьмому году. В сущности, от него требовали, чтобы он сделал другой фильм, этот к выпуску на экран не рекомендовали, причем все это еще сопровождалось грубыми высказываниями по адресу актеров и актрис — а надо добавить, главную роль в «Русском вопросе» играла жена Ромма, превосходная актриса Кузьмина, — что усугубляло и грубость высказываний.
Я там, на этом художественном совете, не согласился ни с существом упреков, адресованных Ромму, ни с формой. А по поводу формы в заключение сказал, что не узнаю художественного совета. Видимо, за то время, что я не был на его заседаниях, здесь успели привыкнуть к грубости и даже к хамству, не украшающим наше собрание. Примерно так. Некоторые из моих коллег сочли себя оскорбленными, на следующем собрании художественного совета постановили осудить мое непозволительное поведение.
Вот почему присуждение Ромму за его фильм Сталинской премии первой степени было для меня связано с некоей долей мстительной личной радости или, если угодно, удовлетворения. А в принципиальном плане, что было, конечно, куда важнее, давало, как мне тогда показалось, некоторую почву для борьбы со сверхконъюнктурщиками, подчинившись которым нам пришлось бы в связи то с теми, то с другими общественными изменениями и веяниями чуть не каждый год заново черкать и дописывать раньше написанные вещи.
Я вспомнил всю эту, в общем, не столь значительную историю, имевшую отношение ко мне и к Ромму, потому что она весьма характерна для тех, во многих отношениях очень трудных ситуаций, когда отнюдь не всегда дело кончалось таким образом, как у нас с Роммом, порою как раз наоборот, к немалому, а порою просто-напросто стыдному ущербу для нашего искусства и нашей литературы.
Обсуждение всех премий было уже закончено, но Сталин, к концу обсуждения присевший за стол, не вставал из-за стола, похоже было, что он собирался сказать нам нечто, припасенное к концу встречи. Да мы в общем-то и ждали этого, потому что существовал один вопрос, оставленный без ответа. Список премий по поэзии открывался книгой Николая Семеновича Тихонова «Югославская тетрадь», книгой, в которой было много хороших стихов. О «Югославской тетради» немало писали и вполне единодушно выдвигали ее на премию. Так вот эту премию как корова языком слизала, обсуждение велось так, как будто никто этой книги не выдвигал, как будто она не существовала в природе. Это значило, что произошло что-то чрезвычайное. Но что? Я и другие мои товарищи не задавали вопросов на этот счет, думая, что если в такой ситуации спрашивать, то это должен сделать Фадеев, как старший среди нас, как член ЦК. Но Фадеев тоже до самого конца так и не задал этого вопроса про «Югославскую тетрадь» Тихонова — или не считал возможным задавать, или знал что-то, чего не знали мы, чем не счел нужным или не счел себя вправе с нами делиться.
Читать дальше