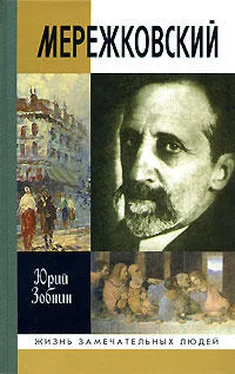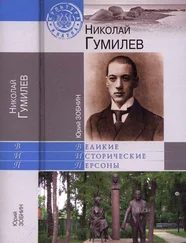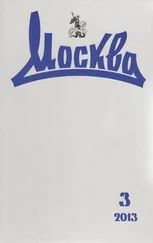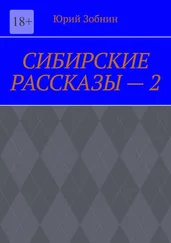Как мы видим, сам автор трилогии тоже разделил судьбу своих героев.
Урок, который, по Божьей воле, преподает отпавшему от Творца человеку история, – страшный урок. Тот, кто хочет жить «во имя свое», кто горделиво считает себя в силах своею волею решить все проблемы расколотого исторического бытия, запутывается в лабиринте ужасных, нелепых и кровавых противоречий.Это показано в исторических романах Мережковского с такой силой, что некоторые критики упрекали его в садическом цинизме и кощунстве. «Уже те эпохи, которые он выбирает для своих романов, – пишет один из самых непримиримых (и самых талантливых) противников Мережковского И. А. Ильин, – суть неустойчивые, колеблющиеся времена соблазнов и туманов: двусмысленные и раздвоенные. Христианство уже победило, но язычество еще не изжито, – вон он языческий разврат, укрывшийся в христианстве, а вот сущая добродетель в язычестве. Вот эпоха Возрождения в Италии – язычество возрождается, а христианство в лице католицизма вырождается до корня. А вот эпоха просвещения и языческого классицизма вламывается в Россию при Петре. А вот религиозная смута на Крите и в Египте. И всюду, где эпоха смуты и соблазна, – там истинно вожделенное пастбище для Мережковского. ‹…› Вот благочестивая, искренно-верующая христианка – от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря – он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот святой мученик – с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только и думают, как бы им вырезать всех язычников. От руки найденного идола совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо платить вдвое – „из почтения к Богоматери“. Человек имеет две ладанки – с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа Римский прикладывается к Распятию, – а в Распятии у него Венера. ‹…› Вот девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку – это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва – на колдовское заклинание ‹…›. Вы начинаете озираться – и искать себе точку опоры, лицо, на котором можно было бы отдохнуть, отвести душу, посочувствовать, полюбить, и вдруг вы убеждаетесь, что у Мережковского все двусмысленно и фальшиво; все двусветно, двулично, скользко, все холодно и гладко, как тело ужа; все соблазнительно, смутно, неверно – по средневековому выражению, все есть scandalum – скандальный соблазн. Все – душевное, духовное, умственное – таково, что невольно начинаешь молиться – не введи же меня в искушение – и откладываешь книгу».
Яростная критика Ильина вряд ли может быть признана справедливой – не Мережковский же выдумал «двусмысленные и раздвоенные» исторические эпохи! Но итог филиппики неожиданно говорит в пользу Мережковского: для того он и громоздит в своих книгах исторические ужасы друг на друга, чтобы, ужаснувшись, читатель «невольно начал молиться».Сам человек, повторим, не сможет сделать в истории ничего. «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие – в них же нет спасения», – недаром поется в начале православной литургии.
* * *
К историософской художественной прозе Мережковского идейно примыкают его эссе и историко-литературные «исследования» этого периода.
Уже с первых шагов Мережковского – историка мировой культуры, с появления в 1888 году в «Северном вестнике» статьи «Флобер в своих письмах» и вплоть до конца 1890-х годов, когда многочисленные отдельные очерки составили органичное единое целое – книгу «Вечные спутники» (1897), каждое из его выступлений в этом роде вызывает в отечественной периодике эффект скандала. Издатель «Спутников» П. П. Перцов, близко знавший Мережковского в эпоху «рубежа столетий», вспоминал, что как критик, вообще как теоретический писатель, Дмитрий Сергеевич был настоящий «литературный изгнанник», вынужденный сотрудничать с второстепенными изданиями: «Такие, совершенно объективные и мастерски написанные статьи, как о Гончарове и Майкове, могли быть напечатаны только в захудалом „Труде“ – ежемесячном приложении к еженедельной „Всемирной иллюстрации“, то есть где-то на задворках литературы. В парадных покоях их новизна шокировала». «Вообще в русской литературе встречали меня недоброжелательно, – сдержанно замечает Мережковский в автобиографии 1914 года, – и недоброжелательство это до сих пор продолжается. Я мог бы справить 25-летний юбилей гонений безжалостных».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу