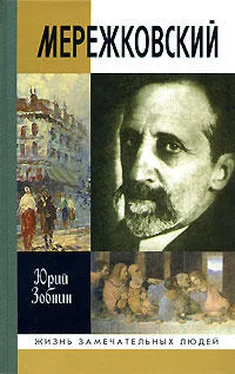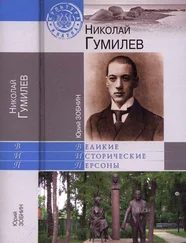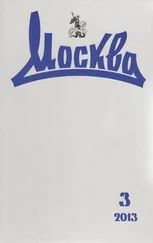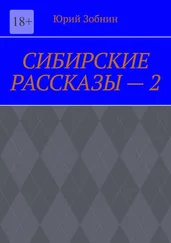Финал плещеевской жизни необычен. Словно вознамерившись наглядно опровергнуть циническую сентенцию о неизбежном крушении литературных донкихотов, подобных Плещееву, судьба вместо пресловутого «чердака», где, по всему, и должен был завершиться путь «бедного поэта», – уготовила ему роскошные апартаменты парижского отеля «Mirabeau», ничуть не уступающие суворинскому салону с венецианскими зеркалами и сверкающими стеклянными подвесками в гостинице на берегу Grand Canal. Плещеев неожиданно получил огромное наследство и, обосновавшись в Париже, звал туда своих молодых друзей: «…Ну, хоть ненадолго, если б вы знали, как тут хорошо! Май – лучший месяц в Париже. Приезжайте прямо в мою гостиницу…» Плещеев «почтеннейше просил» принять от него «аванс» на проезд – тысячу рублей.
Разумеется, Мережковские не могли отказаться от такого приглашения и, вместо того чтобы, как планировали, вернуться в начале мая в Петербург, оказались во французской столице, только привыкающей к совсем еще новенькой Эйфелевой башне, воздвигнутой к Всемирной выставке 1889 года.
«Широкий балкон плещеевских апартаментов выходит на улицу, и прямо передо мною – скромная золотая вывеска „Worth“, – вспоминает Гиппиус. – Налево сереет Вандомская колонна, внизу весело позвякивают бубенчики фиакров.
– Правда, хорошо? – спрашивали нарядные дочери Плещеева, показывая мне «свой» Париж. – А как вас папа ждал!»
Алексей Николаевич, хотя и похудевший от начинавшейся уже болезни, мало изменился с петербургской поры. Огромное богатство, вдруг свалившееся на него «с неба», он принял с благородным равнодушием, оставаясь таким же простым и хлебосольным хозяином, как и в маленькой клетушке на Преображенской площади.
– Что мне это богатство, – говорил он. – Вот только радость, что детей я смог обеспечить, ну и сам немножко вздохнул… перед смертью.
Он гулял с Мережковским и Гиппиус по бульварам, водил в кафе «Ambassadeur», где блистала Иветт Жильбер, и заказывал каждый раз роскошный обед. Однажды, слегка разомлев, он сказал: «Ну, теперь ведите меня в assommoir! [11]» – и тотчас же сам добродушно расхохотался над собой:
– Тьфу ты, я хотел – в ascenseur! [12]А лакеи-то глядят на меня: обедал-обедал, и вдруг еще ведите старика в ассомуар!..
Дни, проведенные с Плещеевым в Париже, странно контрастировали с фантастическим «бегством наперегонки» по Италии за Мефистофелем-Сувориным и Фаустом-Чеховым. В этом наглядном контрасте для Мережковского, еще переживающего суворинские соблазны, был, несомненно, большой, возможно, – провиденциальный смысл. Глядя на спокойный и ясный плещеевский «закат», слушая неторопливую беседу старика, неколебимо уверенного в правоте своего безоблачного гуманистического, «детского», интеллигентского идеализма, Мережковский получал противоядие от взвинченного, насмешливого и разрушительного напора нравственного и эстетического нигилизма, которым заражал Суворин, «глубоко убежденный в порочности всех». Вновь, как в гимназические годы, перед Мережковским, стоящим на самом пороге грядущего серебряного века, отрицательный «тезис», ведущий к декадентской «переоценке ценностей», осложнялся не менее сильным «антитезисом».
Плещеев в Париже стоил Суворина в Венеции!
Осенью вернувшиеся из своего «дачного» Вышнего Волочка в Петербург Мережковские уже не застали здесь семью Плещеевых. Здоровье Алексея Николаевича стало резко ухудшаться, и он остался лечиться во Франции и Швейцарии, чувствуя, впрочем, что все усилия лучших докторов уже бессильны против неумолимой старческой немощи. Но с исчезновением плещеевских домашних «вечеринок», объединявших в квартирке на Преображенской литераторов «с именем» и студентов, в жизни Мережковских оставались «пятницы» Якова Петровича Полонского.
В отличие от Плещеева Полонский, которого Мережковский знал также с университетских времен, не был расположен к свободному общению. Полонский весьма ценил свой статус «живого классика» и с гордостью говорил, что если Достоевский ввел в русский язык слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную ночь». Слава Полонского действительно была велика: вместе с Фетом и Аполлоном Майковым они составляли в глазах читателей поколения Мережковского поэтический «триумвират», утвердивший в русской поэзии XIX века идеал «чистой красоты». Мережковский даже отдавал Полонскому предпочтение перед Фетом: по его мнению, «в лучших песнях» Полонского «больше сумеречного, безглагольно-прекрасного, похожего на откровения природы, чем в искуственно-филигранной и довольно слащавой лирике Фета». В своих пейзажных стихотворениях юный Мережковский учился у старшего поэта, «одного из немногих современных людей, сохранивших с природою древнюю, священную и таинственную связь». Перу Мережковского принадлежит обстоятельный разбор творчества Полонского.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу