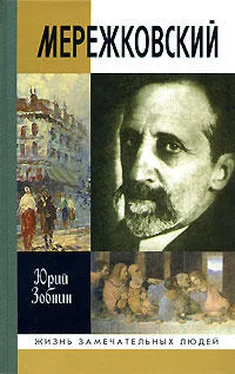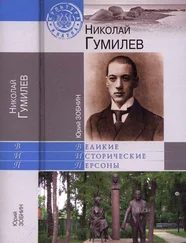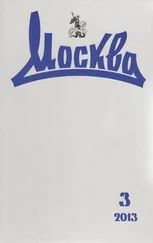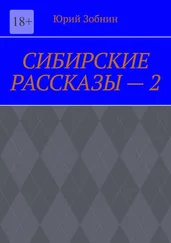– Где же и зародилось революционное понимание всемирной истории, как не в христианстве? – риторически вопрошал Мережковский. – На Западе, в папстве, абсолютизме духовном, на Востоке, в кесарстве, абсолютизме светском, вера в грядущего Освободителя, эсхатология, иссякла, исказилась и окаменела; но огненный родник ее доныне бьет в сердце русского народа – в освобождении, в интеллигенции – во всех русских отщепенцах, «настоящего Града не имеющих, грядущего Града взыскующих»…
Мережковский подчеркивал, что борьба с интеллигенцией есть борьба с самой возможностью «светлого будущего» для России и в «общественном», и в «религиозном» смыслах.
«Кажется, наступил тот полунощный час, когда вот-вот раздастся крик петухов, возвещающий солнце.
Прислушаемся же, не прозвучит ли в наших сердцах этот крик; жив Господь; и живы души наши, да здравствует русская интеллигенция, да здравствует русское освобождение!»
И под гром аплодисментов он сошел с трибуны.
Казалось, что никаких выступлений уже не будет; но нет, – из зала как-то боком вышагнул Семен Людвигович Франк и через мгновение был уже на трибуне, бледный, осунувшийся, но решительный и собранный. Ожидая, пока утихомирится зал, он спокойно протер свои совсем уж «интеллигентские» круглые очки и, нацепив их, укоризненно посмотрел на оппонента.
– Для меня загадочно мировоззрение Дмитрия Сергеевича, – тихо, но очень твердо, так что все услышали каждое слово, сказал Франк. – Что означает для него религия? К чему она его обязывает, и обязывает ли вообще к чему-либо иному, кроме той социальной метафизической риторики, которую исповедуют и атеисты? Или, в самом деле, религия есть столь пустая вещь, что ее исповедание состоит в простой подмене слов, что достаточно поставить вместо Маркса – апостола Иоанна, вместо «эрфуртской программы» – апокалипсис и вместо «государства будущего» – град Новый Иерусалим, и дело в шляпе?…Такой взгляд содержал бы величайшее оскорбление понятия религии, и трудно допустить, чтобы Дмитрий Сергеевич серьезно и в глубине души его держался; но слова и действия его как будто говорят это.
В зале стало очень тихо, а Франк, по-прежнему негромко, спокойным и уверенным голосом продолжал:
– Участники «Вех» полагают, что переход интеллигенции от нигилизма и атеизма возможен только как коренное культурное перевоспитание личности, через переоценку всех, в том числе и общественных ценностей. Как же мог Мережковский, поставивший, по-видимому, своей задачей религиозную миссию среди интеллигенции, не заметить этого духа «Вех», который, казалось бы, должен ему быть близким и родственным? Одно из двух: или религиозно-философский пересмотр интеллигентского мировоззрения вообще не нужен, – и тогда пусть Мережковский объявит себя попросту, без оговорок и без мнимо мистического жаргона, позитивистом и социал-демократом, или же пересмотр все же нужен, и тогда – правда на нашей стороне.
Мережковский не нашелся, что возразить.
* * *
Позже, вспоминая свои впечатления от дискуссии, Розанов подытоживал: для «специалиста по христианским делам» Мережковского «христианство ‹…› одна из пережитых идей, которую он престидижитаторски выдергивает там и здесь последние 2–3 года для красоты и эстетического украшения своей личности и своих „теорий“». «Что такое эти семь интеллигентов, составивших „Вехи“, – спрашивал себя и читателей Розанов. – Абсолютно бессильны и слабы ‹…› у них нет того имени, которым обладает Мережковский, нет готовых к услугам столбцов газет… К их услугам нет и Религиозно-философских собраний. Но Мережковский перевернул все дело: русскую интеллигенцию, могущественную, владеющую всей печатью, с которой очень и очень считается правительство ‹…› он представил плачущей, жалкой клячонкой… „Браво! Браво! Браво!“ И я кричал „браво“. Ну что же: талант обманывает. Но как грустно, что даже слезы, всё, всё, и „вздохи матери“, и „скорбь друга“, всё, чем живут цивилизации и тепел каждый дом, – тоже пошло на грим актера, на пудру актрисы. Есть ли религия, когда молитвы читает актер, и „даже лучше священника“… Страшно и жутко жить на свете».
Этой статьи Мережковский Розанову не простил: пути «друга Мити» и «любезного друга Василия Васильевича» начинают расходиться навсегда.
Мережковскому было плохо. То, что его выступление в зале Польского общества было не чем иным, как «стрельбой по своим», он не сознавать не мог, равно как не мог не сознавать и того, что в «Вехах» с удивительной точностью намечены те самые реальные пути «воцерковления интеллигенции», методика того самого «нового религиозного действия», которое он сам и начал десять лет тому назад. И, стремясь, очевидно, заглушить собственные сомнения, он истерически кричит на Бердяева: «Православие есть душа самодержавия, а самодержавие – есть тело православия… Христианская святость совместима с реакцией, с участием в „Союзе русского народа“, с превращением Церкви в орудие мирской политики, с благословением смертных казней… Если такова Церковь… то как он мог войти в нее?… А сняв голову, по волосам не плачут. Нельзя же в самом деле поручать себя молитвам тех, кого считаешь мучителями, распинателями правды Христовой, кого подозреваешь в безбожном, демоническом отношении к миру».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу