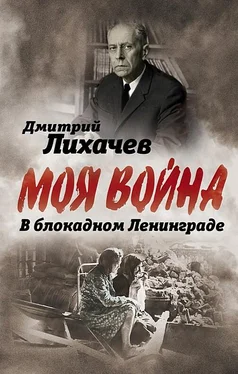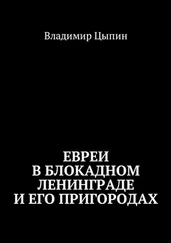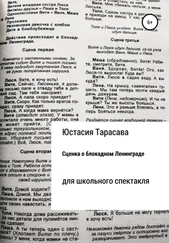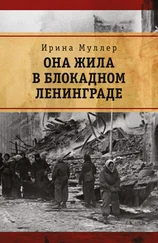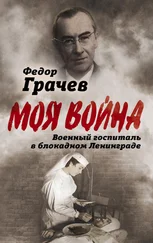В декабре (если не ошибаюсь) появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а вовсе не «дорогой жизни», как сусально назвали ее наши писатели впоследствии). Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь.
Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! Один Бог ведает! У А. Н. Лозановой (фольклористки) погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на саночках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу — подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность.
По этой дороге уехал и наш мерзавец Канайлов. Он принял в штат Института несколько еще здоровых мужчин и предложил им эвакуироваться вместе с ним, но поставил условие, чтобы они никаких своих вещей не брали, а везли его чемоданы. Чемоданы были, впрочем, не его, а онегинские — из онегинского имущества, которое поступило к нам по завещанию Онегина (незаконного сына Александра III — ценителя Пушкина и коллекционера). Онегинские чемоданы были кожаные, желтые. В эти чемоданы были погружены антикварные вещи Пушкинского Дома, в тюки увязаны замечательные ковры (например, был у нас французский ковер конца XVIII века — голубой). Поехал Канайлов вместе со своим помощником — Ехаловым. Это тоже первостепенный мерзавец. Был он сперва профсоюзным работником (профсоюзным вождем), выступал на собраниях, призывал, произносил «зажигательные» речи. Потом был у нас завхозом и крал. Вся компания благополучно перевалила через Ладожское озеро.
А там на каком-то железнодорожном перекрестке Ехалов, подговорив рабочих, сел вместе с ними и всеми коврами на другой поезд (не на тот, на котором собирался ехать Канайлов) и, помахав ручкой Канайлову, уехал. Тот ничего не мог сделать. Ехалов явился в Казань; ходил в военной форме (в армии он никогда не служил), с палкой и изображал из себя инвалида войны.
После отъезда Канайлова Институтом стал ведать М. М. Калаушин. Увольнение прекратилось. Напротив, было принято несколько человек — в том числе и наша Тамара Михайлова. М. М. Калаушин сам был уволен перед тем из Института одним из первых. Он работал санитаром, и когда пришел перед отъездом Канайлова наниматься к нам на работу в Институт, я едва его узнал. Лицо его отекло, покрылось пятнами и было совершенно деформировано. В Институте он что-то организовал с карточками, принял В. М. Глинку, приблизил В. М. Мануйлова, а впоследствии взял и М. И. Стеблина-Каменского. Эти четыре человека спасали Институт до 1945 г. Впрочем, Калаушин уехал, оставив главным В. А. Мануйлова.
Когда бы я ни заходил в кабинет Калаушина, он ел. Ел хлеб, обмакивая его в растительное масло. Очевидно, оставались карточки от тех, кто улетал или уезжал по дороге смерти.
Еще до отъезда Канайлова с Ехаловым в Институт были впущены моряки с подводных лодок, которые стояли на Малой Неве прямо против нашего Института. Дело в том, что остатки нашего флота, ледоколы, турбоэлектроход «Вячеслав Молотов» — все были введены в Неву и стояли у берега с левой стороны под защитой окружающих зданий. «Вячеслав Молотов» стоял под защитой Адмиралтейства, ледокол «Ермак» — под защитой Эрмитажа и т. д. Для ценнейших зданий города это соседство не было безопасным. Наши подводные лодки тоже не были приятными соседями, но не только тем, что они могли приманивать к нам немецкие бомбардировщики.
Команды кораблей были пущены к нам в музей и дали обещание давать нашему начальству по тарелке супа. Ради этого их комнаты были обставлены всей лучшей мебелью. Диван Тургенева, кресло Батюшкова, часы Чаадаева и пр. — все отдавалось морякам ради чечевичной похлебки. Чечевица была действительно тогда в ходу и казалась необыкновенно вкусной. Кроме того, морякам было разрешено пользоваться библиотекой и пр. Моряки не остались в долгу. Они провели кабель с подводных лодок и дали себе и нашему начальству настоящий электрический свет! И вот началось… Ночами какие-то тени бродили по музею, взламывали шкафы, искали сокровища. Собрание дворянских альбомов очень пострадало. Пострадали и многие шкафы в библиотеке. А весной, когда вскрылась Нева, моряки без предупреждения в один прекрасный день ушли из Института, унеся с собою все, что только было можно. После их ухода я нашел на полу позолоченную дощечку: «Часы Чаадаева». Самих часов не было. На каком дне они лежат сейчас?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу