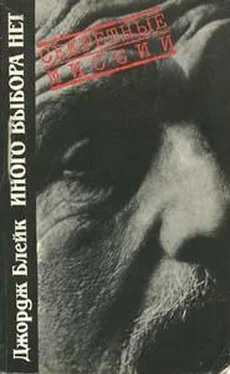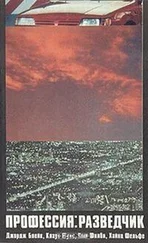Когда судья покинул зал заседаний, меня отвели вниз в одну из камер. Она оказалась маленькой и темной, предназначалась только для ожидания, и из мебели там были лишь деревянный стул и небольшой стол. Ее грязные сырые стены пестрели надписями, среди которых попадались просто непристойные, но большинство свидетельствовало об отчаянии, горечи, вызове или надежде тех, кто ждал здесь. Пока я был там, ко мне пришел врач из тюрьмы Брикстон. Я еще не утратил привычек дипломатического мира, в котором вращался. И хотя он явно пришел узнать, каково мое самочувствие, я принял это за визит вежливости и был тронут его добротой. Лишь позднее я понял, что он пришел исключительно по долгу службы, посмотреть, как я принял удар и не нужны ли транквилизаторы. Ближе к вечеру меня приковали наручниками к двум тюремным служащим и в небольшом фургоне отвезли в тюрьму Уормвуд-Скрабс. По дороге я заметил продавцов газет, несших плакаты с моей фотографией, сделанной восемь лет назад, после моего возвращения из Кореи, гласившие, что новости о приговоре появятся в первом же вечернем выпуске газет. На короткое время я стал сенсацией.
Вскоре огромные тюремные ворота распахнулись, пропуская фургончик, и мгновенно закрылись за ним. Наступил еще один переломный момент в моей жизни. Начался новый этап, и все говорило за то, что он окажется долгим.
В Уормвуд-Скрабс меня провели в «приемную», должным образом внесли в тюремные книги, записав самую раннюю дату моего освобождения — 1989 год и самую позднюю — 2003 год. Всю одежду и личные вещи у меня отобрали, после ванной выдали тюремную одежду и отвели в больницу. Это было сделано вовсе не потому, что я находился в шоке или в состоянии полной подавленности, как писали в газетах (что вполне могло бы быть правдой), просто таков обычный тюремный порядок. Всех новоприбывших, осужденных на пожизненное заключение или другие длительные сроки, помещали сначала в тюремную больницу, где около недели наблюдали за их состоянием. Здесь мне вновь пришлось раздеться, и я получил пижамную пару слишком большого для меня размера без пуговиц и резинки на поясе брюк. Меня заперли в камере, вся обстановка которой состояла из лежащего на полу резинового матраца. Следующий день оказался хлопотным: я принял целую вереницу посетителей, среди них главного врача, начальника тюрьмы и его заместителя, капеллана и других, чьих должностей я не знал. Они, с любопытством глядя на меня, вежливо спрашивали, как я себя чувствую. У меня создалось смутное впечатление, что, услышав мой ответ «хорошо, спасибо», они оставались слегка разочарованными. В тот же день меня также навестил мой добрый и опытный солиситор мистер Кокс, по просьбе которого мне вернули тюремную одежду и отвели в блок для посещений. Он пришел поторопить меня с подачей апелляции, и я согласился больше для того, чтобы доставить ему удовольствие (ведь он так настаивал), нежели потому, что питал какие-то надежды на возможность хоть что-то изменить. Я был уверен, что мой приговор был не результатом чувств или настроения судьи, а заранее обдуманным актом государственной политики.
Это стало ясно по количеству предъявленных обвинений. В полицейском суде и на предварительном слушании дела речь шла только об одном. На суде же их неожиданно стало пять. Почему? Максимальное наказание, установленное парламентом по закону о государственной тайне, составляет 14 лет. Но этого, естественно, было мало. Подобный приговор сочли бы слишком мягким, особенно американцы, поднявшие шум и жаждавшие крови. Итак, следовало найти способ увеличить срок.
Обвинение в заговоре, хорошо сработавшее во время шпионского процесса в Портленде несколькими месяцами раньше и давшее возможность отправить Лонсдейла и чету Крюгеров в тюрьму (первого — на 25, а вторых — на 20 лет), в моем случае не годилось, поскольку был всего один обвиняемый. Тогда кто-то из руководства прокуратуры вспомнил дело Тичборна, спор о титуле в прошлом веке, в котором судья вынес отдельные приговоры по каждому обвинению касательно одного и того же преступления. Годы, когда я передавал информацию советской разведке, были разделены на пять периодов в соответствии с различными постами, которые я занимал в это время, и для каждого периода заготовили отдельное обвинение. Произвольность подобного деления очевидна, так как одно обвинение включало пять лет, другое — одну или две недели, тогда как остальные три — от одного до двух лет. По каждому обвинению я получил полных 14 лет, три срока из пяти должны были проистекать последовательно, а два — параллельно, что и составляло 42 года. Через несколько месяцев после суда в прессе появились утверждения, что я несу ответственность за смерть около 40 агентов, работавших на британскую и прочие западные разведки, и что присужденные мне 42 года складываются из одного года заключения за каждого агента.
Читать дальше