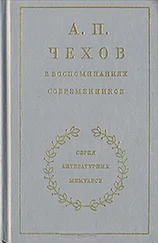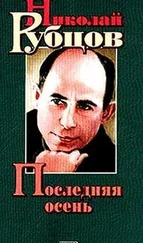Словно споткнувшись, Чехов докончил:
— И тогда, вероятно, все же ничего из этого всего не выйдет, и ваш журнал съест вас…
В разговорах с Чеховым я не раз подмечал его недоброжелательное отношение к Одессе. Это меня заинтересовало, и как-то раз в часы «заседаний» на знаменитой «писательской скамеечке» у магазина караима Синани я рискнул прямо спросить Чехова, почему он не любит Одессу?
— Против Одессы как города, — ответил он, — я ничего не имею. Но против одесситов… Действительно, есть-таки у меня недоброе чувство. Зародилось оно издавна, тогда еще, когда самой Одессы я и не знал, — по знакомству с одесской печатью. Всегда эта печать была бог знает чем. Всегда она отличалась нестерпимою крикливостью, наянливостью, всегда на ней лежал отпечаток чего-то дешево-базарного. Говорят; — это оттенок европеизма. Покорно благодарю! Откуда европеизм? Я ведь знаю одесскую газетную братию. Издатель — бывший мороженник, таскавший по улицам Одессы тачку с лимонадами. Вот он взялся издавать газету. Да мало того, что просто издавать, — он взялся руководить ею. К нему попадали и талантливые люди. Но они или не уживались и уходили, или, если уживались, — опускались на самое дно, становились молодцами своего издателя, выучивались у него держаться так, как держался он сам, носивший на голове кадку с мороженым. Когда завелась другая газета, — в Одессе завелась вечная грызня, и притом самого откровенного свойства. Газеты обливают друг друга помоями. Газеты целые столбцы свои занимают собственными дрязгами, воображая, что эти дрязги интересны публике. Может быть, и интересны. Но ведь это же означает — потакать самым дурным инстинктам толпы. А язык одесских газет? Боже мой, что только они делают с русским языком и из русского языка?!
В другой раз Чехов очень сердито отозвался об одесситах-интервьюерах, изредка добивавшихся свидания с ним.
— Побудет человек пять минут, услышит, собственно говоря, только «здравствуй, прощай», а потом три недели пишет ежедневно фельетон и передает наши объяснения. Зачем это? К чему?
Нет, нет! Это, знаете, как вот бывают магазины такие: базар — любая вещь двадцать копеек. И стакан — двадцать, и перочинный нож — двадцать, и коврик — двадцать, и все грошовое, и все никчемное, и все ярко раскрашенное линючею, крикливою краскою. Нет, бог с нею, с Одессою!
После смерти Чехова не раз мало знавшие его люди пытались уверить, будто Чехов питал нежные чувства по отношению к Ялте, в которой он прожил последние годы своей жизни. На самом деле у Чехова было резко отрицательное отношение к Ялте. Иногда он откровенно ненавидел Ялту и, не стесняясь, высказывал это. Помимо жалобы на то, что жить в Ялте приходится, как в безвоздушном пространстве, Чехов жаловался и на многое другое:
— Дивное море, а Ялта в это море вываливает нечистоты. Чудесные горы, а Ялта не умеет провести дорог по этим горам. И те дороги, которые проведены, отравляют окрестности пылью. Настроили дворцов и вилл, но это — фасад. А за фасадом — каменные карманы с насквозь прогнившими стенами. На набережной — магазины, которым и в Париж не стыдно показаться, а в двух шагах кофейни, на ночь обращающиеся в ночлежные приюты для беспаспортных. И это — символ всей жизни Ялты. Это — кофейня, она же — ночлежка. Настоящего, прочного, органически связанного с городом населения еще нету. Все не граждане, так сказать, а временные курортные арендаторы, которым до внесезона в высшей степени никакого дела нет. Прицелился, обобрал кого-нибудь, — а если обобранный завопил — гони его в шею. Жди другого.
И с этим беспардонным хищничеством — поразительная беспомощность во всех отношениях, полное непонимание своих даже собственных выгод, что-то тревожно-алчное, вот как бывает у игроков в Монте-Карло. Да еще у шулеров на волжских пароходах. Ходит, знаете, фертом таким, франтоват, весел, говорлив, а в глазах — тревожное ожидание:
«А скоро ли меня при всем честном народе бить будут и с парохода ссадят?!»
И тут же сам себя успокаивает:
«Но это ничего! Все равно, я на другой пароход пересяду!»
При Чехове как-то летом в одну ночь сгорел маленький, но сносный городской театр, в котором тогда подвизалась опереточная труппа известного южного антрепренера Новикова. Город получил страховую премию. И началась волокита — с вопросом о постройке нового театра. Проект за проектом, и один другого грандиознее. Старый театр стоил что-то тысяч сорок. Новый — должен быть грандиозным: в триста, нет, в четыреста тысяч? Да что четыреста? В миллион!
Читать дальше