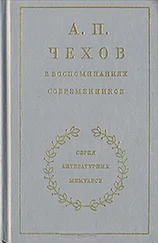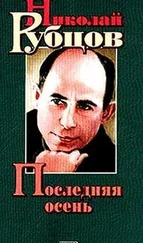Это был дословно заголовок одного из произведений одолевавшего меня «самородка».
— Одолевают? — допытывался, сверкая глазами, Чехов. — Так вам и надо! Страшно рад! Поделом! Не беритесь за редакторское дело! Не лезьте добровольно в каторгу! Полезли? Кушайте на здоровье!
— Да вы-то, Антон Павлович, почему злорадствуете?! — засмеялся я. — Почему вам-то это доставляет удовольствие?
— А как же? — словно удивился Чехов. — Это, батенька, как где-нибудь в приемной популярного врача, где собирается множество больных разнообразнейшими болезнями и каждому доставляет удовольствие, если удастся обнаружить, что его сосед еще опаснее болен, чем он.
У меня один только зуб ноет, и то хоть вешайся, а у него вон не то три зуба, не то целая челюсть!
Чехов показал мне лежавшую на письменном столе форменную груду разнообразнейших рукописей.
— Видите? Засыпают! Из Владивостока даже шлют! Про Архангельск уж и говорить нечего: по нашим временам — это совсем ведь близко! Спасибо Савве Мамонтову — железную дорогу соорудил до Архангельска-то! Несчастливцевым большое одолжение сделал!
А вы вот что, М. К.! «Самородок»-то ваш представляет некий интерес. Не в отношении своего творчества, конечно, а как личность. Попросил я вас прийти к себе, конечно, не из-за сто слезницы, а просто — редакционным воздухом дохнуть захотелось, поболтать, а вы здесь, в Ялте, сейчас — единственный «сих дел мастер». Уж вы не сердитесь… А относительно «самородка» и присных — рекомендую обратить внимание: не пренебрегайте! И это — материал, и материал, могущий оказаться чрезвычайно интересным. Наблюдайте. Входите в непосредственное соприкосновение. Расспрашивайте. Когда-нибудь, — если только избавит вас аллах от газетной лямки, — размахнетесь и сами романом из жизни газетной братии. И тогда вот такие из жизни взятые фигуры вам вот как понадобиться могут в качестве сырого материала!
Я последовал совету Чехова, вызвал в редакцию «самородка», долго объяснялся с ним и потом должен был дать отчет о разговоре самому Чехову.
…Мальчик шестнадцати или семнадцати лет. Служит подручным в кузнечном заведении, стоящем на краю города. Учился в деревенской школе. Одержим страстью писать стихи, говорит стихом. Дошел до того, что кажется маньяком: подбирает рифмы к каждому услышанному слову.
— Мне кричат:
— Тащи воду!
— А я отвечаю:
Я принес бы воду
Для крещеного народу,
Да к воде нет ходу
За неименьем броду!
…Маленького роста, кривоногий, с низким звериным лбом, приплюснутым носом и выпяченными губами, с вытянутым редькою черепом, весь какой-то корявый. От хозяина получает угол там же, в кузнице, еду, обноски платья и три рубля в месяц. С трудом читает, — читает только газеты. И вот — он исписывает стопы бумаги повестями… из великосветской жизни. Его «персонажи» — графини, княгини, баронессы, графы, бароны, миллионеры банкиры — «американе». Чушь получается, понятно, невообразимая. Но мальчишка упорно стоит на своем: пишет, рассылает по редакциям, ждет ответа, обижается, пишет уже дерзкие письма, грозит «бросить боньбу», то есть бомбу.
Чехов почему-то заинтересовался этим несчастным свихнувшимся маньяком, и устроилось у меня в редакции свидание.
— Зачем вы пишете про графинь, маркиз, баронесс? — допытывался Чехов у мальчугана. — Да вы хоть одну-то княгиню живую видели?
— Вот те на! — сердился мальчишка. — Да мимо нашей кузни сама княгиня Барятинская сколько раз проезжала! Видел ее как облупленную!
— Вот вы из деревни? Да? Вы работаете в кузнице? В кузницу приходят десятки людей: рабочие, татары, греки. Почему вы не попробуете о них писать?
— Очень нужно кому?! — фыркает «самородок». — Рабочие — они рабочие и есть! Одно слово — рабы! А татары — баранья лопатка!
Так мальчик и ушел разочарованным.
С другим «писателем из народа» Чехов на моих глазах провозился несколько недель, покуда не был вынужден признаться, что и это случай совершенно безнадежный.
Это был мужиковатый парень, кажется — ярославец, раньше, в дни юности, бывший позолотчиком и зарабатывавший очень недурно. Как-то он присутствовал на пожаре, уничтожившем старинную церковку, и написал о пожаре корреспонденцию в местных епархиальных ведомостях. За корреспонденцию ему прислали 11 рублей 50 копеек. Это его и погубило. На селе он стал известен под именем «писателя», к нему стали обращаться с просьбами «разделать» волостного старшину, писаря, священника. И вот парень записал. Писал в прозе, в стихах, исписывал целыми пудами бумагу. Заваливал редакции и издательства. На его беду именно в этот период ракетою взвилась слава Максима Горького, в литературу вошел босяк, заговорил дерзкие речи. Бывший позолотчик — назовем его Поликарповым, — он жив и сейчас, — жадно ухватился за «горьковские» темы и стал описывать «людей со дна», причем все эти люди оказывались невероятными философами, говорили не иначе, как напыщенными тирадами, обличая «гнусных буржуев».
Читать дальше