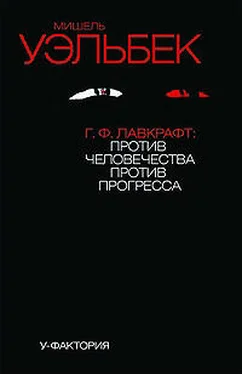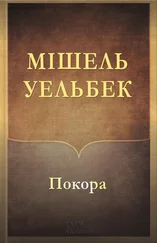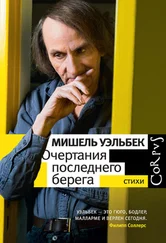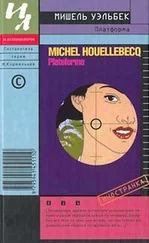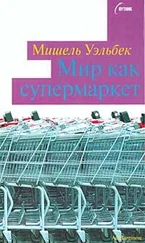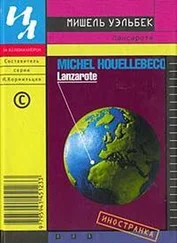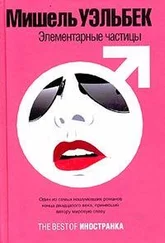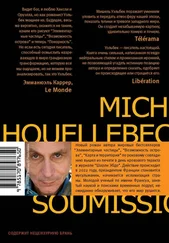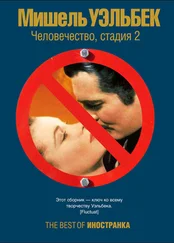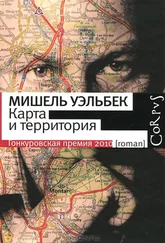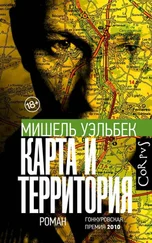При таких обстоятельствах нас не удивит, что Лавкрафт не питал особой симпатии к Фрейду, великому психологу капиталистической эры. Этот мир «трансактов» и «трансферов», который создает у вас впечатление, что вы по ошибке очутились на совете директоров, не имел ничего такого, чем мог бы его прельстить.
Но помимо этого отвращения к психоанализу, общего, в конце концов, у многих художников, у Лавкрафта было несколько мелких дополнительных причин упрекать «венского шарлатана». Оказывается, в самом деле, что Фрейд позволяет себе рассуждать о снах, и даже не однажды. А ведь сновидение — это предмет, который Лавкрафт хорошо знает; это, так сказать, его заповедная территория. В сущности, мало кто из писателей так же систематически использовал свои сновидения, как он; он разбирает полученный материал, он его рассматривает; порой с воодушевлением, он записывает историю не переводя дух, даже окончательно не проснувшись (так было в случае с Nyarlathothep'ом); порой он сохраняет только некоторые элементы, чтобы ввести их в новую структуру; но, как бы там оно ни было, он весьма всерьез принимает сны.
Стало быть, можно считать, что Лавкрафт показал себе относительно воздержанным с Фрейдом, не более чем два или три раза обругав его в своей переписке; но он считал, что не о чем особенно говорить и что психоаналитический феномен провалится сам по себе. Он тем не менее нашел время отметить главное, сжато выразив фрейдистскую теорию этими двумя словами: «детски-наивный символизм».
Можно было бы исписать сотни страниц на эту тему и не найти существенно лучшей формулировки.
Лавкрафт, в сущности, не обладает подходом романиста. Едва ли не всякий, какой угодно романист воображает своим долгом предоставить исчерпывающую картину жизни. Его миссия — привнести новое «освещение»; но факты сами по себе у него не знают никакого отбора. Секс, деньги, религия, технология, идеология, перераспределение богатств... хороший романист ничем не должен пренебрегать. И все это должно находить себе место в связной панорамной картине мира. Задача, конечно, человечески почти непосильная, и результат почти всегда неудовлетворительный. Грязная работенка.
А на более скрытом плане, что досадно, романист, пишущий о жизни вообще, неизбежно обнаруживает, что так или иначе идет на сделку с ней. У Лавкрафта же этой проблемы нет. Ему прекрасно можно возражать, дескать, те детали «животной биологии», что его раздражают, играют важную роль в существовании и что именно они-то и дают возможность сохраняться человеческому роду. Но до «сохранения рода» ему-то что за дело! «Почему вас так беспокоит будущее обреченного мира?» — как отвечал на это Оппенгеймер, отец атомной бомбы, журналисту, который брал у него интервью по поводу далеко идущих последствий технологического прогресса.
Мало беспокоясь о воссоздании внутренне согласованной или приемлемой картины мира, Лавкрафт не имел никакого резона идти на компромиссы ни с жизнью, ни с химерами. Ни с чем бы то ни было. Все, что ему казалось безынтересным или низшего художественного свойства, он намеренно предпочитал игнорировать. И это ограничение придает ему силы, придает высоты.
Это умышленное творческое ограничение не имеет ничего общего, повторяем, с какой бы то ни было идеологической «возней». Когда Лавкрафт выражает свое презрение к «викторианским фикциям», назидательным романам, приписывающим ложные и напыщенные мотивы человеческим поступкам, он совершенно искренен. Не больше снисхождения в его глазах нашел бы и Сад. Идеологическая возня опять же. Попытка подогнать реальность под заранее установленную схему. Дешевка. Лавкрафт же не пытается перекрасить в другой цвет те элементы реальности, что ему претят; он их игнорирует, и решительно.
Он тут же оправдывается в одном из писем: «В искусстве нет никакого проку принимать в расчет хаос Вселенной, ибо хаос этот настолько всеобъемлющ, что никакая воплощенная на письме тема не может дать и его абриса. Я не могу помыслить себе какую-либо правдоподобную образную структуру жизни и космической энергии иначе как в виде вихря неких точек, расположенных по спиралям без четкого направления».
Но мы не вполне понимаем точку зрения Лавкрафта, если считаем это умышленное ограничение только философски пристрастным мнением, не видя того, что речь в то же время идет о некоем императиве техническом [5] [5] Греческое слово τεχνή в переводе означает «искусство»; речь идет об императиве художественном. - Примеч. пер.
. Некоторые человеческие побуждения действительно не находят никакого места в его творчестве; в архитектуре первое, что надо выбрать, это используемые материалы.
Читать дальше