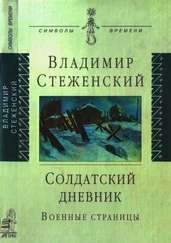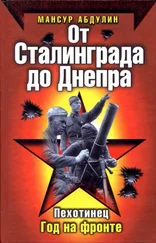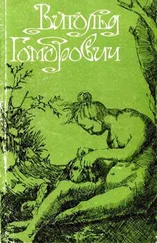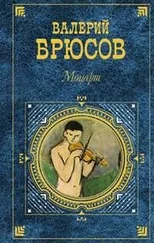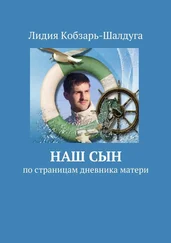Ну вот, руки сделали необходимое, можно оглядеться. Траншеи несвежие, бока порядком обтерты.
— Значит, давно тут стоим, — поделился соображением Макаров Николай, из соседнего расчета; все боевые расчеты в нашей роте сформированы с училища.
— Или у немцев отбили, — возражает Козлов Виктор.
Голоса у обоих спокойные, будто век воевали.
В небо то и дело, освещая дно траншеи, взлетают немецкие ракеты, не умолкает пулемет.
— Нашей ночной атаки боятся, — усмехнулся Конский Иван, и в глазах его, на мгновение блеснувших в мертвенном свете, я поймал окончательно успокоившую меня уверенность.
Бутейко, наш командир роты, старший лейтенант, уже отправил кого-то дежурить на наблюдательный пункт, а меня предупредил, чтоб готов был сменить дежурного на рассвете.
— Что, Мансур, не жарко теперь тебе? — по-татарски спрашивает подошедший вместе с комроты его заместитель по политчасти младший политрук Хисматуллин Фаткулла, в мирной жизни учитель истории, дотошно каждого из нас расспрашивавший, где кто родился да кем хотел стать, — для будущей, как он говорил, книги.
— Спрашиваю, не жарко ему теперь? — переводит он для Бутейко и всех.
Ну, все и рады погоготать. Дело в том, что я, сибиряк по рождению, на училищных стрельбах пару раз хлопался в обморок от ташкентской жары… Боялся даже, что спишут…
Стали вспоминать, как в училище гимнастерки от соли и пота отстирывали каждый день, и расползались они у нас каждые две недели… Как мечтали: «Скорей бы на фронт!»
— Вот мы и на фронте, — подытожил Бутейко, взглянув на часы. — Теперь не забывайте, чему вас учил.
А учил нас боевой и опытный комроты — он был на войне с первых дней, чтобы, помимо прочего, мы как можно чаще дополнительными зарядами прочищали стволы минометов от пороховых остатков. По засоренному стволу мина продвигается медленно, и следующая при ведении беглого огня, посланная до выстрела предыдущей, может взорваться в стволе…
— Отдыхайте пока, — велел Бутейко, и они с Хисматуллиным, пригибаясь, ушли дальше по траншее.
Серега Лопунов немедленно потребовал у Фуата иголку с ниткой, а Кожевников Виктор — листок бумаги и карандаш… Надо сказать, что в вещмешке нашего с Суворовым заряжающего всегда было все, что требуется человеку: иголки, нитки, шнурки, пуговицы, ножнички, бритва, вазелин, мыло, сапожный крем, щетка, йод, бинты — большой аккуратист Фуат. И никогда не сидел без дела. Вот и сейчас, пока мы занимались воспоминаниями, он успел пришить распоровшуюся подкладку своей шинели и уже осматривал покосившийся каблук на ботинке Макарова Николая. И портным он был отличным, и сапожником, и поваром, и, если приходилось, кузнецом и плотником. А хлеб, сахар или там махорку в нашем взводе никогда не делили по методу, когда один спрашивает: «Кому?», а другой, отвернувшись, отвечает: «Иванову, Петрову, Сидорову…» У нас Фуату доверяли разделить, и потом каждый брал с плащ-палатки любую из сорока паек, уверенный, что все они одинаковы. Фамилия Худайбергенов по-русски означает «божий дар». По отцу Фуат был татарин, а по матери — узбек. Сильный, крупный парень — мой одногодок. Неразговорчивый. Но когда приглашал всю роту на плов после Победы — откуда только бралось красноречие! Все были вынуждены клясться, что приедут к нему в Ташкент. Мне клясться было сподручней, чем другим: незадолго до войны отец перевез нашу семью из Сибири на рудник Саргардон в Средней Азии — домой все равно через Ташкент ехать…
Про все про это и я, по примеру большинства товарищей, нацарапал домой письмо, надписал адрес: «Южно-Казахстанская область, Бостандыкский район, кишлак Бричмулла, Абдулину Гизатулле», и обратный: «Полевая почта 1034». (Через сорок с лишним лет, когда я возьмусь записать на бумаге пережитое, сотрудники архива Министерства обороны СССР, заглянув в дивизионные — 293-й дивизии — документы, с некоторым удивлением подтвердят: да, почта в наш 1034-й стрелковый полк — до преобразования его в феврале 1943 года в 193-й гвардейский — шла под номером полка.)
Бросил треугольник в общую кучку, и вот тут — до дежурства оставалась еще пара часов — от нечего, как говорится, делать одолела меня дума, имя которой страх. Вон Иван Конский спит и небось во сне свою родную Смоленщину видит, а в моей зрительной памяти назойливо держится картинка, увиденная в балке: фиолетовые лица трупов.
…Как шахтер-горняк, я был забронирован от мобилизации, но добился отправки на фронт. Четверо друзей — Коняев Коля, Ваншин Иван, Карпов Виктор и я — мы явились в Бостандыкский райвоенкомат, доказывая военкому, что не такие уж мы опытные шахтеры, чтобы нас бронировать от фронта. «Броня Комитета Обороны! — твердит военком. — Не могу и не имею права!» Пришлось — смешно вспомнить — пригрозить, что вот взломаем ночью магазин, чтобы отправили нас хоть со штрафным батальоном, а на суде дадим показания, что майор Галкин не хотел отправить на фронт по-хорошему… Смог-таки майор Галкин: куда-то позвонил, с кем-то согласовал — и вот мы голышом перед придирчивой комиссией, набирающей курсантов в авиационное училище. Приняли только двоих из нас моего самого близкого дружка Коняева Колю и Виктора Карпова. Мы с Ваншиным снова в военкомат, и в тот же день поехали: Иван — в Чирчикское танковое училище, а я — в Ташкентское пехотное имени В. И. Ленина… Знал я, что иду навстречу смерти? Знал. Воображение еще не представляло конкретной картинки, увиденной на дне балки в фиолетовом свете ракеты… Но непостижимое существо человек! Окажись я сию минуту за тысячи километров от этой балки в моем цветущем кишлаке Бричмулла на Чаткале — снова пойду-побегу в военкомат стучать кулаками, чтоб отправили сюда. Вот ведь штука: и умирать не хочется, и жить невмоготу, если нечиста совесть. Истерзала меня в шахте мысль: а что я стану говорить, когда кончится война? Что в тылу тоже были нужны кадры, особенно на шахтах оборонного значения? Нужны. Да каждому не объяснишь, всем не докажешь. Девчонок и тех берут на фронт… Но как не хочется погибнуть! Как невыносимо страшно стать трупом в балке, освещаемой фиолетовым светом ракеты…
Читать дальше