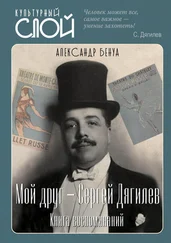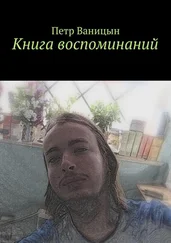1 ...7 8 9 11 12 13 ...175
От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Рвутся бомбы и гранаты
Озверелых палачей.
Почему же высекли только Инбер?.. На какое-то время она примолкла… И занялась гепеушно-полезной деятельностью в Переделкинском писательском городке. В 37-м году она подсаживала в семьи арестованных «наседку» – критика Осипа Резника на предмет подслушивания разговоров – видите ли, он расходится с женой, и ему, бедному, негде жить. Она взяла на хранение у своей подруги, жены арестованного критика Беспалова (слышал от нее самой) драгоценности, которые та просила употребить на содержание дочери, ибо чувствовала, что заберут и ее, и эти драгоценности присвоила, так что если б не домработница, взявшая девочку на свое полное иждивение, то неизвестно, что бы с девочкой сталось. Облазив переделкинские дачи, она после ежовщины зарыскала по московским «открытым» домам. Однажды напросилась по телефону в гости к незнакомой ей и совершенно для нее неавторитетной поэтессе Щепкиной-Куперник, под предлогом, что ей хочется вынести на суд Татьяны Львовны свои последние стихи. Но она с одного разу смекнула, что здесь поживиться нечем. Я был в тот вечер у Татьяны Львовны. Инбер читала там свою поэму о Грузии, заканчивавшуюся тостом за здоровье Сталина: «Иосиф Виссарионович, за вас!» («Грузинский дневник»).
Инбер, вероятно, рассчитывала, что слушатели, авось, на эту строчку клюнут и ругнут вождя. Слушатели держали язык за зубами. Татьяна Львовна из вежливости похвалила поэму, сделав одно замечание: поэма написана октавами, а октава требует-де более точных рифм. Инбер выкатилась несолоно хлебавши, больше носу туда не показывала и даже из вежливости не позвонила. В Ленинграде, во время блокады, она спекулировала съестными припасами военного госпиталя, которым ведал ее супруг. И вот эта почтенная во всех отношениях дама на общемосковском собрании писателей 31 октября 1958 года пропищала реплику по поводу проекта резолюции о Пастернаке: «Эстет и декадент – это чисто литературные определения. Это не заключает в себе будущего предателя. Это слабо сказано».
Но все эти литераторы, или, как называл в разговоре иных советских писателей Сергей Клычков, ретирадоры, производя это слово от «ретирады», то есть нужника, действовали ей-ей логично, оттого, что Борис Пастернак был им не компания.
…Несколько месяцев спустя, уже после того, как Ахматову и Зощенко вытряхнули из Союза писателей и лишили пайков, я услышал от Богословского, что Пастернак пишет задуманный им еще до войны роман под заглавием «Мальчики и девочки» и что сердцевину его составляет христианство. Пройдет еще некоторое время – и Николай Иванович Замошкин даст мне перепечатать стихотворение Пастернака «Рождественская Звезда».
При чтении «Рождественской Звезды» я пережил одно из тех редких потрясений, какие когда-либо вызывало у меня искусство слова.
Всякое истинное искусство традиционно и своеобычно, национально и всечеловечно, вечно в своей современности. Оно зарождается не в воздухе – оно вырастает на почве, сосет мочками корней соки земли, а затем уже принимает неповторимую окраску и разливает особое благоухание. Пастернак не одинок в своем стремлении внести психофизиологические черточки в облик действующих в Евангелии лиц, Пастернак не одинок и в показе чудесного, вспыхивающего среди обыденного, в дерзновенном смещении широт и долгот.
Так Чехов в рассказе «Студент» (в рассказе, который, по свидетельству Н. Н. Вильмонта, любил Пастернак), нимало не снижая, как сам автор выражается в финале, «высокого смысла» евангельских событий, вот уже сколько веков отзывающихся в мире своим незаглушимым гулом, а лишь приближая их к нашему взору, к нашим чувствам и ощущениям, угадывает увиденные им на многовековом расстоянии, казалось бы, мелкие, но такие важные, так много объясняющие в поведении апостола Петра черточки: «После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Потом… Иуда… поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся , [6]предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били…»
Так Бунин заставляет своих иконописцев из стихотворения «Новый храм» вспоминать детство Христа, «порог на солнце в Назарете, верстак и кубовый хитон».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
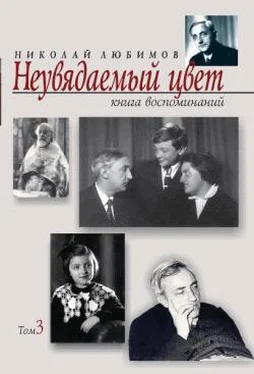
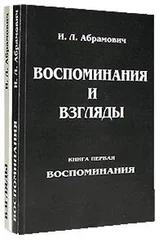
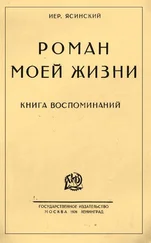
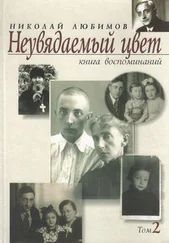
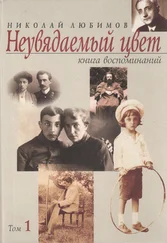

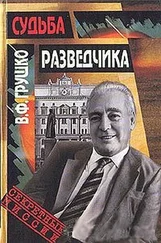

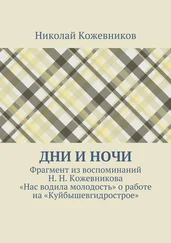
![Эльке Хайденрайх - Все не случайно [Книга воспоминаний]](/books/409846/elke-hajdenrajh-vse-ne-sluchajno-kniga-vospominan-thumb.webp)