Полет авиатора постоянно был сравниваем с иным полетом, полетом души в бесконечность, и, естественно, оказывался, в глазах русских людей, жалкой затеей «смерда», обреченной на позор и осмеяние.
Тогдашний модный романист Арцыбашев тоже посрамлял авиацию метафизическим полетом в нездешнее; по крайней мере и одном из его романов читаем:
— «Вон там летают... знаете?
— Летают?
— Да.
— Ну и пусть себе летают, все равно далеко не улетят».
Таково традиционное неприятие цивилизации русской литературой. У русских писателей с идеей полета связывалось представление о запредельных мирах, и потому полет авиаторов, в тесных пределах земной атмосферы, казался им полетом мухи в банке. У Алексея Толстого, в одной из его повестей, так и говорят об авиаторе:
«Человек один пузырь построил и полетел... Что за дурак человек! В самом деле полетишь и поверишь, что все-то тебе известно, и со всем ты совладал. Как муха в стеклянной банке!»
То, что другим показалось бы демонстрацией чудодейственной человеческой силы, им кажется новым свидетельством нашей духовной бескрылости. «Ах, если бы живые крылья души, парящей над толпой!» Им дают новую радость, новую фантастическую силу, а они, как толстовский Аким, лопочут: «таё, таё. А Бог? А душа?» Американец Уитмэн пятьдесят лет назад возгласил, что «в работе машин и в работе ремесленников он видит символы и знамения вечности» , и с набожным благоговением воспел:
Доменную печь и плавильную печь,
И сахарный завод, и железопрокатный завод, и шелкоткацкую фабрику,
И шлак, и чугунные болванки,
И гладкие крепкие рельсовые скрепы в форме буквы Т,
И паровую лесопилку, и маслобойню, и фабрику свинцовых белил.
Но все это слишком мизерно для поэтов страны Неделания. Поставьте рядом с ними хотя бы Уэллса, который весь окружен рычагами, шестернями, жироскопами, колбами, или Киплинга, в котором созерцание многосильной турбины вызывает те же эмоции, какие в Фете вызывало созерцание звезды. Как надменно этот Киплинг смеется над нами, славянами, за то, что мы на всем протяжении истории еще не создали ни одного гвоздя, ни одной — самой ничтожной — машины! «Семьдесят миллионов человек, — пишет он в рассказе «The Man Who Was» — семьдесят миллионов человек, которые не сделали еще ничего, ни одной вещи!» Сделать вещь — в этом, по Киплингу, высшее призвание человека. Всех людей он рассматривает главным образом со стороны их профессии: маячные сторожа, лесоводы, рудокопы, кочегары, моряки, миссионеры, солдаты — любопытны ему лишь постольку, поскольку они совершают свою кочегарскую, рудокопную, миссионерскую и всякую другую работу.
И вспомните старо-английские мистерии о том, как Ной сколачивал, смолил и оснащал свой ковчег, или Шиллерову «Песню о колоколе», или Лонгфеллову «Песню о постройке корабля», или знаменитую поэму Оливера Голмса о том, как дьякон построил себе вечную бричку, или рассказ Генри Торо, как у себя в лесу он построил печь, — всюду тот же ненасытный аппетит к деланию новых предметов, вкус к архитекторству и инженерству (который дошел до своего апогея еще в «Робинзоне Крузо», в начале XVIII века) — и как смеялся над этим величайшим человеческим свойством наш гениальный человек из подполья.
«Я согласен, — говорит Достоевский, — человек есть существо по преимуществу созидающее, присужденное заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хотя куда бы то ни было».
Дорога прогресса, по ощущению всех дореволюционных русских писателей, великих и малых, есть дорога в пустоту, дорога — куда бы то ни было . Здесь Достоевский сходится с Толстым и Блок с Баратынским. Русская литература предпочитала оставаться с толстовским Акимом в дураковом царстве с тремя чертенятами, лишь бы не прославить это строительство «куда бы то ни было».
Куда бы то ни было! Но вот человек строит и строит — и наконец выстраивает себе хрустальный дворец, где ни прежних язв, ни судорог, одно благоденствие, сытость, комфорт. А дальше что? А дальше ничего. Неужели в этом вся цель, венец и предел всех желаний, чтобы выстроить себе хрустальный дворец, этакий «капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске». «Да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу», — как бы дразнит Горького человек из подполья, требуя, чтобы тот, во имя уважения к душе человеческой, отказался от оскорбительной мысли вылечить, осчастливить людей. «Человек только и хорош страданием, — повторяет человек из подполья, — человек от настоящего страдания никогда не откажется... Может быть страдание ему настолько же и выгодно, как благоденствие, а человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт... Любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично, — внушает самый русский и самый великий из русских великих писателей. — «Ну вот, выстроено хрустальное здание, все благополучны и сыты — и, конечно, нельзя гарантировать, что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что, что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке?), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, чего от скуки не выдумаешь... Я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг, ни с того ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагодарной или, лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам всё это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправить к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить?»
Читать дальше
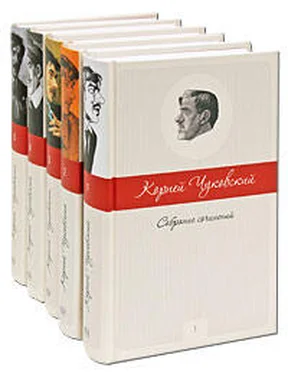
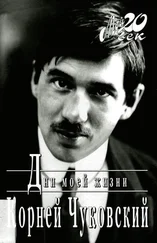
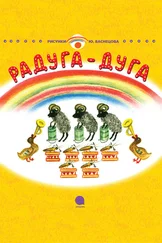
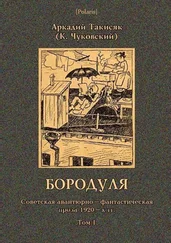



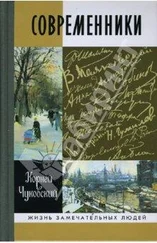


![Корней Чуковский - Доктор Айболит [Повесть-сказка]](/books/420257/kornej-chukovskij-doktor-ajbolit-povest-skazka-thumb.webp)
