Иначе он и не умеет мыслить. Даже прежний его романтизм был ему нужен не столько для себя, сколько для нас, пациентов. Он был романтиком, ибо думал, что романтизм — лекарство. А чуть обнаружилось, что романтизм — отрава, он тотчас же перестал быть романтиком. Также и индивидуалистом он был лишь дотоле, доколе верил, что индивидуализм целебен. А чуть разуверился в этом, выбросил его вон из души. Тут беспримерная дисциплина воли: человек по внушению долга перекраивает всё свое естество, приказывает себе, что любить и чего не любить.
Но неужели эти воспоминания о детстве и отрочестве суть тоже медицинские книги, а не архив, не история? Ведь все болезни, изображенные там, относятся к прошедшей эпохе и, кажется, давно уже излечены. Раны зажили, боль отболела. Неужели Горького не могло потянуть просто сантиментально порыться в сувенирах минувшего и воскресить в душе невозвратно угасшие образы? Мало ли таких мемуаров печаталось в «Русской Старине» и в «Историческом Вестнике»? Повести Горького относятся к семидесятым и восьмидесятым годам, к царствованию Александра II, многое в них успело покрыться 40-летнею пылью, — причем же здесь современная Русь?
Все эти соображения могли бы быть правильными, но только не в отношении Горького. У Горького не такой темперамент, чтобы он мог предаваться лирической грусти, сладостно-томному тургеневскому размягчению души; истоки его творчества другие, и он энергично подчеркивает в обеих своих повестях, что это вовсе не мемуары о былом, а насущнейшие книги о нынешнем.
«Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, — пишет он в повести «Детство», — я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе: стоит. Ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день».
И о повести «В людях» буквально повторяет то же самое:
«Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, — это ведь не прошло, не прошло... Дабы вы вспомнили, как живете и чем живете. Подлой и грязной жизнью живем все мы, вот в чем дело!..» [10] Сравни «Детство», с. 312 и «В людях», с. 327.
Вот зачем он написал эти книги: для излечения нынешней (а не для обличения прежней) России, — чтобы искоренить нынешние свинцовые мерзости, вырваться из нынешней грязи!
Чем же Россия больна? Как он хочет вылечить Россию? Какие он рекомендует лекарства? Для ответа на эти вопросы, нам, кроме повести «В людях», будет чрезвычайно полезна маленькая статья Горького «Две Души», появившаяся почти одновременно с повестью. Все, о чем трактует повесть, сказано очень четко в статье, повесть есть как бы некий альбом иллюстраций к тезисам этой статьи. Когда «Две Души» появились в печати, их встретили возмущенными возгласами:
«Это лживое и несправедливое обвинение нашего народа Максимом Горьким мы должны отвергнуть с глубочайшим негодованием», — писал один из бывших соратников Горького, Евгений Чириков, и сравнивал его статью с плевком в лицо народа.
«Горький унижает весь русский народ, отнимает у него всякую искру, не дает ему надежд на возрождение», — негодовал Леонид Андреев.
И как бы для того, чтобы ответить на эти негодующие возгласы, чтобы подтвердить свою краткую и поневоле голословную статью неопровержимыми данными, заимствованными из действительной жизни, Горький и написал эту повесть. — «Вы мне не верите, вы полагаете, что я клеветнически порочу Россию фантазиями; но вот фотографии с натуры», — таково значение этой повести. Похоже, будто путешественник, рассказы которого о виденных им краях кажутся всем небылицами, вдруг достал из кармана подлинные, сделанные кодаком снимки, чтобы пристыдить маловеров.
Как, например, возмущались кругом, когда Горький в своей статье заявил, что русская душа больна жестокостью, что наш быт палачески-свиреп! Эти заявления казались бредовой клеветой, но повесть Горького подкрепляет их фактами. Где я ни раскрывал эту повесть, на каждой странице читал:
— Поленом по голове... по глазам... в морду башмаком, каблуком... гирей по лбу.
Самого Горького, 13-летнего мальчика, оказывается, то высекут так, что потом везут в больницу, то натыкают ему иголок в сапоги, чтобы он до крови исколол себе пальцы, то сунут ему в рот папиросу, набитую порохом, чтобы он, закурив, обжег себе лицо, — словом, все то же, о чем мы читали в «Городке Окурове», в «Детстве», — однообразное разнообразие пыток.
— Люди, брат, могут с ума свести, могут! — читаю я на каждой странице. — Мучители!.. Они злее клопов.
Читать дальше
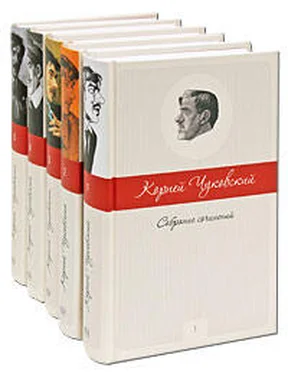
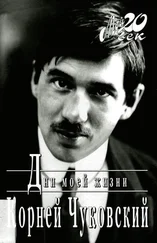
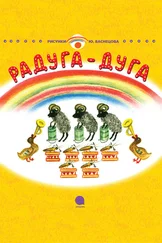
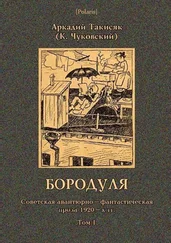



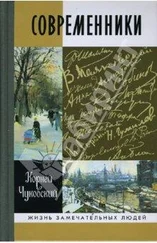


![Корней Чуковский - Доктор Айболит [Повесть-сказка]](/books/420257/kornej-chukovskij-doktor-ajbolit-povest-skazka-thumb.webp)
