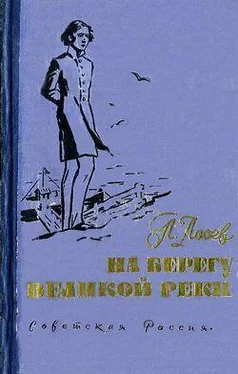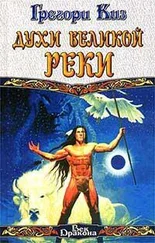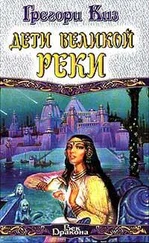– Ты? – волновался Николай.
– Зачем я? Чай мы не без понятия, – обиженно отозвался Кузяха. – В собаку никогда стрелять не станем.
– Кто же?
– Изволь, скажу, – понизил голос Кузяха, оглянувшись вокруг. – Батюшка твой, Алексей Сергеич. На Иваньковском озере было. Промахнулся барин в селезня. А тут Летай из осоки лезет. Он и пульнул в него со злости. Наповал уложил. А сам потом все плакал, все плакал. Приказал Летая в саду закопать да могилку насыпать, как вроде человеку. Сам увидишь могилку-то. Под яблонькой…
В каком-то подавленном состоянии возвращался Николай домой. Жалко было Летая, стыдно за отца. Убить беззащитную, верную собаку? Как это можно!
К ужину Николай не вышел, есть не хотелось. Он писал в своей комнате грустные стихи. Потом стал искать сборничек Бенедиктова. Среди привезенных из Ярославля книг наткнулся на учебник Беллявена. С сердцем швырнул его под стол.
О, забыть бы поскорее ненавистную гимназию! Забыть мрачные коридоры, медный колокольчик у крыльца, бочку с мокрыми прутьями, грязную скамью. Забыть молитву, которую хором читали по окончании уроков:
– Благодарим тебе, создателю, иже сподобил еси нас благодати твоея во еже внимати учению… И благослови наших начальников и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к преодолению учения сего…
Ночью в доме началась суматоха. Хлопали двери, раздавались приглушенные голоса, гулкие шаги.
Разбуженный шумом, Николай прислушался. В коридоре кто-то плакал. Он открыл дверь:
– Лизонька, ты?
Плечи сестры тряслись от рыданий. У Николая защемило сердце от ужасной догадки:
– Андрюша? Что с Андрюшей?
– Он умрет, умрет, – сквозь слезы повторяла сестра…
До утра не было покоя в доме. Отец отправил одну карету за доктором, другую за священником в Аббакумцево. Елена Андреевна ни на минуту не отлучалась от постели больного сына.
В полдень появился Герман Германович с неизменным своим кожаным саквояжем в руках. Осмотрев больного, на этот раз он не уехал, как обычно, а остался в доме. Ему отвели комнату по соседству с Николаем, и через тонкую стенку было слышно, как он говорил отцу:
– На фсе есть боший воля. Будем иметь стараний спасти малшик. Мы получал новый медикамент. Из самый Берлин. Ошень, ошень хороший есть результат. Но надо быть готов во всем. Иметь, как это по-русску, мушество…
Детей к Андрюше не допускали. Не понимая, что происходит в доме, Феденька и Костя весело бегали по саду, играли в прятки и скороговоркой тараторили считалку:
Ачум, бачум, чумба чу,
Чюмба, рюмба, ачум бу,
Ачум, бачум, тарантас,
На горе вечерний час.
«Какая бессмыслица, – с раздражением думал Николай, сидя в саду и прислушиваясь к голосам младших братьев. – Откуда этот вечерний час? И почему на горе? Чепуха, совершеннейшая чепуха!»
Но Феденька с Костей были, видимо, иного мнения о считалке. Они повторяли ее без конца…
С крыльца сбежала курносая, с рябинками на носу сенная девушка. Она направилась прямо к скамье, на которой сидел Николай.
– Барин, барин! – испуганно вращая глазами, зашептала девушка. – Вас матушка зовут.
Николай поднялся в дом.
– Сюда, сюда, пожалуйте, – показывала ему рукой на Андрюшину комнату бежавшая впереди девушка.
У дверей Николай едва не столкнулся со сгорбленным и высохшим, как мощи, священником из Аббакумцева. От него пахло ладаном.
Около Андрюши сидели полная безысходной печали, с темно-синими полукружьями под глазами мать и Герман Германович. Он сосредоточенно капал в стакан из маленького серебристого флакона желтоватое лекарство:
– Айне, цвай, драй!
Подняв голову, мать прошептала сухими губами:
– Николенька, простись…
Андрюша лежал под белой простыней, закрыв глаза. Николаю показалось, что брат умер. Со страхом прикоснулся он губами к его пылающему, словно огненному лбу. Из воспаленного горла больного вырывался короткий клокочущий стон.
Будто во сне, выбежал Николай из комнаты. Он пришел в себя только за усадьбой, освеженный полевым ветерком.
Около оврага паслось стадо, а в тени молоденького дуба виднелась сивая борода деда Сели-фонта.
Заметив барича, тот кивнул головой. Николай опустился рядом. Над их головами с протяжным писком летали луговки.
Изредка бросая из-под колючих седых бровей внимательный взгляд на пришедшего, Селифонт понял: большое горе у человека.
– Аль обидел кто? – сочувственно заговорил он, подпирая коричневым сморщенным кулаком подбородок.
Читать дальше