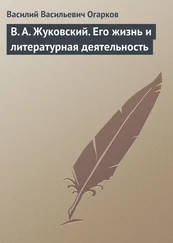Первый год супружества Жуковский, если судить по его произведениям и переписке, был в хорошем расположении духа. В это время им написаны сказки: «Об Иване-Царевиче и сером волке» и «Кот в сапогах», исполненные известной веселости. В письме к императрице Александре Федоровне в 1842 году он сообщает о довольстве своей участью. Описав дом в Дюссельдорфе, где жил, поэт продолжает:
«Там провел я мирно и однообразно десять месяцев, совершенно отличных от всей прошлой моей жизни. В это время, будучи предан исключительно жизни семейной, я познакомился с нею коротко. Знаю теперь, что только в ней можно найти то, что на земле можно назвать счастием; но также знаю, что это счастие покупается дорогою ценою…»
Хотя поэт и говорит о «счастии», но с такими оговорками, что они заставляют сомневаться в огромности этого счастия.
Первые годы семейной жизни были довольно производительны для Жуковского в литературном отношении. В начале 1842 года он кончил «Наль и Дамаянти». Верный своему уже ранее усвоенному поэтическому призванию, поэт мало обращает внимания на бегущую мимо него действительную жизнь с ее горем и радостями, а живописует художественной кистью минувшее. Увлекшись произведениями древнеиндийской литературы, он решился перевести (с немецких переводов Рюккерта и Боппа) из индийского эпоса часть «Махабхараты», изображающую трогательную историю любви Наля и Дамаянти.
Русским читателям знакома эта поэма Жуковского, большие достоинства которой составляют сделанные прекрасным поэтическим языком описания роскошной природы Индии и живость рассказа вместе с трогательностью в изображении печального романа героев.
В это же время поэт начал перевод (с немецкого переложения) «Одиссеи», который был закончен в 1849 году. Прибавим, кстати, что Жуковским переведены и начальные песни «Илиады».
Поэт давно уже лелеял мысль о переводе «старика Гомера». На перевод «Одиссеи» он смотрел как на высшую задачу своей поэтической деятельности и придавал этому труду большое значение, с особенной любовью занимаясь им.
«Новейшая поэзия, – писал он к великому князю Константину Николаевичу, – конвульсивная, истерическая, мутная, мутящая душу, мне опротивела; хочется отдохнуть посреди светлых видений первобытного мира…» Дописывая «Одиссею», он сообщал: «Я – русский паук – прицепился к хвосту орла-Гомера, взлетел с ним на его высокий утес и там, в недоступной трещине, соткал для себя приютную паутину. Могу похвастать, что этот совестливый, долговременный и тяжелый труд совершен был с полным самоотвержением, чисто для одной прелести труда…»
Поэту было неприятно, что то произведение, которое он называл лучшим произведением своим, читатели приняли с равнодушием. По этому поводу он писал Нащокину:
«Я узнал по опыту, что можно любить поэзию, не заботясь ни о какой известности, ни даже об участии тех, чье одобрение дорого. Они имеют большую прелесть; но сладость поэтического создания – сама собою награда…»
Среди треволнений заграничной жизни, среди приступов, недомоганий и переживаний за болевшую жену у Жуковского бывали и радостные события: рождение дочери (1842 год) и сына (1845 год) повергло в умилительное состояние отца, видевшего в этом особенный дар неба. Почти с первых дней жизни детей любящий отец задумывается над вопросами воспитания своего потомства и уже как бывалый и умелый педагог придумывает для него разные занятия и старается облегчить усвоение тех сведений, которые намерен сообщить, придавая им наиболее простые и удобные формы. Занятия, разговоры и игра с детьми были одним из тех светлых лучей, которые освещали последние годы поэта. Но на благодушного Жуковского надвигались и печали. Целый ряд лиц, которых он любил и еще так недавно знал здоровыми и сильными, перешел в «лучший мир». Умерла дочь Воейковой Катя, умерла во цвете молодости великая княгиня Александра Николаевна, которой он только что посвятил «Наля и Дамаянти»; скончались Тургенев и Елагин. Светло-грустное чувство, с которым он прежде провожал в «тот мир» дорогих его сердцу людей и которое подсказало ему стихи:
О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет!
А с благодарностию: были!
Это чувство порою начинало приобретать более печальный и даже мрачный оттенок. Может быть, сознание, что он, постоянно недомогая и будучи уже старым, скоро и сам дойдет до конца жизненной дороги, придавало особенно печальный тон его размышлениям о жизни и смерти, хотя и прежнее воззрение на смерть как на переход в «лучший мир» не всегда его покидало…
Читать дальше