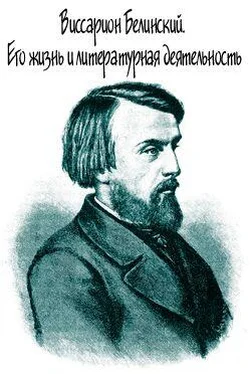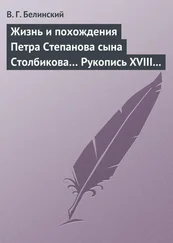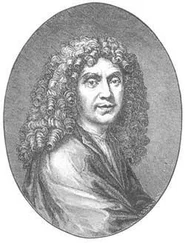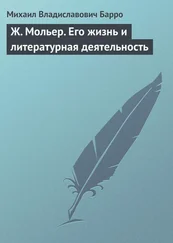Стоит только немного вдуматься в этот отрывок, характеризующий всю статью, чтобы заметить то переходное состояние ума, которое переживал его автор. Если абсолютная идея выражает себя во всех без исключения явлениях, то все без исключения явления имеют совершенно одинаковое право на существование. Если можно поставить рядом рыканье льва и слезу младенца, то исчезает всякое различие между вещами не только в смысле физического бытия, но и в смысле нравственного достоинства. Если бы не было мрака – не существовало бы понятия света; мрак и свет – различные формы одной и той же сущности, различные проявления одной и той же «единой, вечной идеи». Поэзия Пушкина, военные поселения, «святые чудеса запада» и крепостное право, – все это только грани одной и той же великой призмы. Все явления жизни – только конкретные выражения абсолютной идеи. А так как эта идея абсолютно разумна, то разумны и все ее эманации, т. е. вся действительность. Итак, что действительно, то разумно, что существует, то и полезно, и мудро, и нравственно, и справедливо.
Как видит читатель, нам было достаточно немногих строк, чтобы от положения Белинского логически перейти к знаменитому положению Гегеля: до такой степени они близки между собою. Разумеется, такой логический и бесстрашный мыслитель, как Белинский, очень скоро сделал этот шаг, но в рассматриваемой нами статье он еще воздержался от него, потому что в нем не умер еще ветхий человек, Белинский-моралист. Такова мудрость этой идеи, – говорит Белинский, – где же ее любовь? На этот вопрос он отвечает совершенно в духе своей трагедии, – до повторения даже в мелочах, в метафорах («ползи змеею между тиграми, бросайся тигром между овцами, пей кровь и слезы» и прочее). Индивидуально-нравственный идеал опять воздвигается перед нами и на этот раз совершенно некстати, потому что пантеистическая любовь, распространяясь на все живущее и на все существующее, исключает выбор, делает ненужным суд, сглаживает различие между благом и злом, красотою и безобразием: надо любить все, всех и за все. Итак, мудрость «идеи» найдена; любовь ее определена, Белинский забыл только поставить вопрос о третьем атрибуте: где же ее справедливость? Белинский додумался и до этого вопроса – но только уже впоследствии.
Глава V. Жизнь и деятельность Белинского в Москве
Скажем еще раз: с внешнебиографической стороны жизнь Белинского не представляет ни материала, ни интереса. Период пребывания Белинского в Москве может быть изложен в нескольких строках. Начал он свою литературную деятельность в «Молве», продолжал ее в «Телескопе» Надеждина. После запрещения «Телескопа» (за известную статью Чаадаева) редактировал «Московский наблюдатель» и писал в нем (с 1838 года), бедствовал в материальном отношении, болел и ездил для поправления здоровья на Кавказ; в октябре 1839 года уехал из Москвы в Петербург, получив приглашение сотрудничать в «Отечественных записках». Вот главные внешнебиографические пункты московской жизни Белинского, не представляющие собою, как видит читатель, ровно ничего замечательного или поучительного. Жизнь Белинского с внешней стороны была обыкновенным серым существованием русского литератора, у которого рядом с вопросами философии, искусства, идеалов идут вопросы о заработной плате, о безработице, о куске хлеба.
Но умственная жизнь била широким и могучим ключом, несмотря на узость рамок. Кружок, к которому все теснее и теснее примыкал Белинский и общепризнанным главою которого был Станкевич, все более и более углублялся в вопросы духа, улучшался качественно и возрастал количественно. Это был уже не студенческий кружок молодых людей, собиравшихся для совместного чтения хороших книжек и собственных «проб пера», – это было общество замечательных людей, связанных солидарностью воззрений и далеко опередивших свое время. В состав кружка, кроме Станкевича и Белинского, входили Константин Аксаков, Бакунин, Боткин, Кудрявцев, Грановский, Кетчер, Красов, Ключников, Строев, Катков, Ефремов. Никаких специальных, оговоренных уставом целей этот кружок не преследовал; он был простым результатом естественного тяготения друг к другу людей одинаковых понятий и одинаковой степени умственного развития. Нужно перенестись мыслью на многие годы назад, чтобы понять всю необходимость такого явления, как наши кружки тридцатых годов. Умственные запросы начали пробуждаться в обществе, но никаких путей и форм для удовлетворения этой потребности почти не существовало. Университеты находились в жалком положении; журналистики не существовало. Интеллигентный человек был одинок, слаб, скоро падал духом, спивался… Так было, например, с Белинским-отцом, но так, к счастью, не было ни с Белинским-сыном, ни с его друзьями, и в этом деле их личного спасения (а стало быть, и огромной общественной выгоды) «кружок», единение, взаимная поддержка и взаимный контроль сыграли огромную роль. Белинский был несправедлив, когда по распадении кружка, живя уже в Петербурге, писал в одном письме: «Я от души рад, что нет уже этого кружка, в котором много было прекрасного, но мало прочного, в котором несколько человек взаимно делали счастие друг друга и взаимно мучили друг друга». Очевидно, это слишком субъективная оценка, под влиянием боли еще не заживших ран. Но дело было не в этих ранах, равно как и не в «счастии», доставляемом кружком, а в его умственно-развивательной и нравственно-предохраняющей роли.
Читать дальше